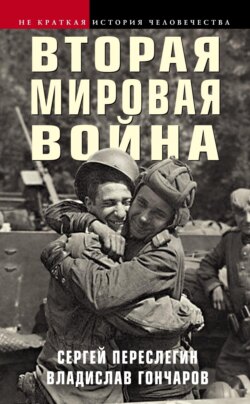Читать книгу Вторая мировая война - Владислав Гончаров - Страница 17
Часть первая. Европейский пролог
Сюжет второй: от Версаля до Глейвица
Блицкриг и контр-блицкриг
ОглавлениеНо вернемся к блицкригу. Мы увидели, что одним из важнейших факторов успеха молниеносной войны являлось психологическое воздействие на противника. Но не менее важной была и сбалансированность структуры войск, оптимизированность ее под выполнение определенных задач в определенных условиях.
В связи с этим часто возникает вопрос: если немцы экспериментальным путем, на основе боевого опыта пришли к некому «золотому сечению» танковой дивизии, подобрав для нее оптимальное соотношение танков, пехоты, артиллерии и транспорта, то почему в танковых войсках Красной армии такое соотношение до самого конца войны достигнуто так и не было?
Действительно, даже советский механизированный корпус 1944-1945 годов, по общей численности приближаясь к немецкой танковой дивизии, имел заметно больше танков, но в то же время меньше артиллерии, меньше транспорта, а значит, и менее развитые тыловые службы. Понятно, что автомобилей в армии не хватало – даже после того, как со второй половины 1943 года в войска начали массово поступать ленд-лизовские «Студебеккеры». Однако почему же нельзя было сократить выпуск танков и за счет этого увеличить выпуск грузовиков?
В конце 30-х годов один танк Т-26 по стоимости соответствовал семи гражданским грузовикам ГАЗ-ААА, то есть 10 тысяч «двадцать шестых» можно было «конвертировать» только в 70 тысяч грузовиков. Да и то лишь теоретически, поскольку в производстве техники ограничивающую роль играет не только и не столько цена, сколько количество рабочих рук, станочный парк, объем производственных помещений, наконец, возможности смежников по поставкам того или иного оборудования. Так, опыт Горьковского автозавода в 1943 году показал, что вместо одного легкого танка Т-70 (или самоходной установки СУ-76 на его базе) можно было изготовить только три грузовика. В 1942 году советской промышленностью было выпущено 12 тысяч легких танков – то есть, очень упрощая, можно считать, что вместо них имелась возможность построить 36 тысяч грузовиков.
Кроме того, было изготовлено 13,5 тысячи средних и 2,5 тысячи тяжелых танков. Считая средний танк по 6 грузовиков, а тяжелый – по 10-12, и напрочь забыв о том, что производство тяжелой гусеничной техники можно перевести на производство легкой колесной техники лишь с огромным трудом и большими потерями времени, мы получим в общей сложности 150 000 грузовиков, которые можно было бы произвести за 1942 год, полностью отказавшись от выпуска танков. Причем отказавшись не только на этот год, но и на всю будущую войну – ибо при обратном налаживании выпуска танков практически все пришлось бы начинать с нуля…
Что бы нам дала такая реструктуризация производства военной техники? За весь 1942 год Красная армия имела в своем составе (считая и потери) 470 000 единиц автотранспорта – в основном грузовых автомобилей. Таким образом, отказываясь от производства танков и от танковых войск вообще, мы бы смогли улучшить подвижность своей армии всего на треть – и все равно бы не приблизились к немецкому уровню моторизации.
Очевидно, что результат не оправдывал затрат. Более того, существует правило: если ты не можешь ликвидировать превосходство противника в какой-либо области, следует не пытаться любой ценой сократить его. Лучше сделать ставку на создание собственного превосходства в другой области и навязать противнику соперничество там, где ты будешь сильнее. Советский Союз был сильнее Германии в масштабах танкового производства[31] – и постарался полностью использовать это преимущество, переведя «моторизованную» войну в плоскость войны «танковой».
Эта война имела свои особенности. Созданные в 1942 году новые советские танковые и механизированные корпуса не были приспособлены к длительным автономным действиям в тылу противника – то есть их можно было облегчить, значительно уменьшив численность артиллерии и личного состава. Таким образом сильно облегчалось управление соединениями – немаловажный фактор при отсутствии у командиров достаточного опыта маневренной войны.
Зато большое количество бронированных машин придавало танковым и механизированным корпусам Красной армии высокие ударные качества, позволяя использовать их как для допрорыва вражеской обороны, так и в качестве мобильных противотанковых резервов. Большое количество танков в корпусе (свыше 200) позволяло посадить на броню треть, а то и половину своей мотопехоты – таким образом, не только отпадала необходимость в значительной части автотранспорта, но вдобавок ударный кулак стрелкового корпуса становился гораздо более маневренным, нежели немецкая танковая дивизия, обретая более высокую проходимость.
Безусловно, этот маневр ограничивался пределами автономности танка – боезапасом и дальностью хода по пересеченной местности. Однако быстро выяснилось, что появление большого количества советских танков даже в оперативном тылу противника вызывает моральный эффект не меньший, чем появление немецкой танковой дивизии во французском или советском тылу в 1940 и 1941 годах.
Конечно, быстро выяснились и недостатки советских танковых корпусов. Одним из главных оказалась их невысокая автономность, в результате чего танковые части сплошь и рядом оказывались в немецком тылу без топлива и боеприпасов. Однако в случае развала немецкой обороны на исход сражения это уже не влияло, тем более что у немцев обнаружилось еще одно слабое место.
На протяжении всей войны немецкие командиры всегда были склонны сильно преувеличивать численность противника. Особенно же сильно эта особенность стала проявляться в период неудач. Для немецких военных, свято уверенных в своем качественном превосходстве над любым противником, психологически было гораздо проще объяснить свое поражение многократным количественным перевесом врага. В результате мощь прорвавшихся в немецкий тыл танковых группировок тоже преувеличивалась, а за этим следовала избыточная реакция – против таких группировок сплошь и рядом бросались подвижные резервы, которые с гораздо большим эффектом можно было использовать в другом месте.
В итоге немецкие танкисты получали Железные и Рыцарские кресты и возможность для написания хвастливых мемуаров, но сражение при этом оказывалось проигранным. И происходило это именно потому, что танковые резервы вермахта вместо выполнения своей основной задачи регулярно занимались тем, что в шахматах именуется «пешкоедством».
Не будем забывать, что советский танк, в отличие от немецкого, был дешевым расходным материалом. Вдобавок численность личного состава в подобных отрезанных группировках, как правило, была весьма незначительной. Разгромить их было несложно, но при этом упускалась возможность использовать танки для «запечатывания» прорыва.
Очевидно, что для действий на стратегическую глубину ни танковые, ни механизированные корпуса образца 1942-1943 годов не годились. Поэтому с лета 1942 года советское командование начало формировать специальные танковые армии, состоявшие как из танковых, так и из пехотных соединений. Средством передвижения для последних должен был стать автотранспорт армейского подчинения – как и планировалось теоретиками середины 30-х годов.
Все неудачи или неполные успехи танковых армий формирования 1942 года с лихвой окупились действиями 3-й танковой армии в январе – феврале 1943 года. Пройдя за полтора месяца около 300 километров, 60-тысячная армия в ходе трех последовательных операций захватила 100 тысяч одних только пленных.
Потери армии также оказались весьма высоки – безвозвратно было потеряно 300 танков и около 15 тысяч человек (четверть от первоначального состава армии и порядка 20 % от всех прошедших через нее людей). Однако эти потери не шли ни в какое сравнение с масштабами достигнутых успехов: до сих пор ни одна советская армия не достигала подобных результатов, и даже победа под Сталинградом стала результатом совместной деятельности нескольких фронтов. Более того, чтобы остановить 3-ю танковую армию и отбросить ее из района Харькова, немцам пришлось ввести в бой 2-й танковый корпус СС – элитное соединение, превосходящее ее по всем параметрам, включая количество танков и численность личного состава. Именно тут вермахт впервые в массовом количестве использовал новейшие танки «Тигр».
Летом 1943 года советские танковые армии, в соответствии с полученным опытом, были переформированы по новым штатам, обеспечивающим им более высокую подвижность. Теперь они стали практически полным аналогом немецких моторизованных (танковых) корпусов. Аналогов немецких танковых групп (танковых армий) советское командование не формировало – отчасти все из-за той же нехватки автотранспорта, отчасти потому что осознавало трудности с управлением столь сложными войсковыми объединениями.[32] Иногда помимо танковых армий отдельные фронты формировали подвижные или конно-механизированные группы, состоявшие из нескольких танковых или механизированных корпусов, усиленных пехотными и кавалерийскими соединениями.
В целом советский вариант блицкрига отличался от немецкого более упрощенной структурой подвижных объединений, меньшим количеством артиллерии в подвижных войсках и в целом гораздо меньшей их автономностью. В то же время нехватка артиллерии отчасти компенсировалась ударной мощью танков, а сравнительно малая автономность – заметно более высокой подвижностью в оперативной глубине вражеской обороны. В результате там, где немецкий танковый корпус оказывался скован пуповиной «панцерштрассе», советская танковая армия получала гораздо большую свободу действий, пусть и на сильно меньший период. Более того, советскому варианту блицкрига оказалось гораздо труднее что-то противопоставить – именно из-за сокращения разрыва между танковой группировкой и наступающими за ней пехотными соединениями, а также из-за отсутствия чрезмерно длинных и крайне уязвимых коммуникаций.
31
Не будем, впрочем, забывать, что даже это превосходство ограничивалось достаточно узкой областью – количеством выпущенных машин, но отнюдь не их качеством. Советские танки могли превосходить немецкие по табличным параметрам – но были заметно менее надежны и ремонтопригодны. Немецкие танки были значительно более удобны в использовании, имели лучшую «эргономику», более качественную оптику и радиоаппаратуру, лучшую внутреннюю баллистику орудий. Однако это в буквальном смысле дорого обходилось немцам – и по относительной стоимости, и по трудоемкости производства немецкая техника (не только бронетанковая) была во много раз дороже советской. Войну недаром называют «торговлей металлом» – в этой торговле Советский Союз использовал рыночные законы куда более умело и успешно, нежели Германия, противопоставив массовое производство дешевого товара штучному производству товара высококачественного.
32
Заметим, что немецкая танковая группа 1940-1941 годов являлась объединением ниже армейского уровня. Преобразование танковых групп в танковые армии, произведенное в начале 1942 года, сопровождалось как минимум формальным усложнением и расширением их структуры – к примеру, в составе немецких танковых армий (как и в советских) появились немоторизованные соединения.
Впрочем, первая попытка создать «полноценную» танковую армию была предпринята ОКХ еще в середине июня 1942 года. Тогда в составе группы армий «Центр» появилась 2-я танковая армия – объединение из 2-й и 3-й танковых групп, а также 1-й кавалерийской дивизии. Однако других армейских структур (помимо штаба) в армии создано не было, а обе танковые группы на практике все равно управлялись штабом группы «Центр». Поэтому в середине июля 1941 года танковая армия была расформирована, практически не оставив следов в истории кампании 1941 года, а в собрании NARA ее документы оказались слиты с документами 2-й танковой армии формирования 1942 года, поэтому ускользнули от внимания исследователей.