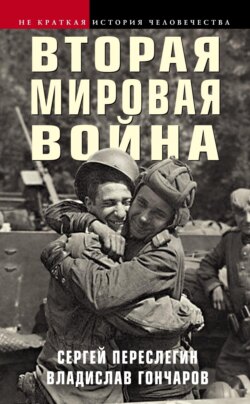Читать книгу Вторая мировая война - Владислав Гончаров - Страница 15
Часть первая. Европейский пролог
Сюжет второй: от Версаля до Глейвица
Теория и практика
ОглавлениеНадо сказать, что не только в 20-е годы, но и много позже, вплоть до Второй мировой войны, многие военные теоретики продолжали считать, что танки вполне способны действовать в прорыве и тылу врага без поддержки пехоты; моторизация пехоты все еще рассматривалась ими в основном как средство быстрой переброски по собственным тылам, а действия в глубоком вражеском тылу оставались прерогативой кавалерии.
Вот что по этому поводу писали советские военные теоретики:
«Стадия развертывания оперативного маневра рисуется в следующем виде. Механизированные соединения, стратегическая конница (1-й эшелон оперативного маневра), устремляющиеся в прорыв вместе с мощной штурмовой и бомбардировочной авиацией, встречными столкновениями ликвидируют подходящие пешком, на автомобилях оперативные резервы противника.
Дезорганизация тыла противника – узлов управления, снабжающих баз… производится рейдирующими механизированными соединениями и стратегической конницей, сопровождаемыми десантами с воздуха.
Одновременно войсковые соединения (второго эшелона оперативного маневра) развертывают маневр на автомобилях (автомобильный маневр), поданных из состава авторезерва главного командования…»[26]
Обратим внимание – речь идет не о моторизованной пехоте, а об обычной пехоте, временно посаженной на транспорт, выделенный из состава РГК. Во многом именно теория глубокой операции, а вовсе не блицкриг, стала порождением бедности – недостаточного уровня моторизации войск, когда из массы армии предполагалось выделять автономный кулак, по своей подвижности многократно превосходящий основные силы. Задачей этого кулака являлся не удар по уязвимым точкам вражеской тыловой структуры с последующим перехватом коммуникаций, а «размягчение» самой обороны вкупе с противодействием вражеским подвижным резервам, перебрасываемым к месту прорыва из тыла либо с других участков фронта.
Именно такими виделись действия механизированных сил творцам теории «глубокой» операции. Необходимость существования чисто моторизованных сил ставилась под сомнение – через пять лет уже упоминавшийся нами выше Ф. Новослободский в своей статье повторял то же самое:
«Войска, обладавшие только средствами оперативной подвижности, не имевшие в бою преимуществ перед обыкновенными, вызывали бы лишь ненужные расходы. Придача оперативной подвижности любому войсковому соединению может быть осуществлена путем перевозки специальными автотранспортными отрядами».
Проще говоря, моторизация пехоты – отдельно, танки – отдельно. Если мы не имеем средств на полную моторизацию, хотя бы в масштабах объединения, тогда отдадим приоритет танку как средству, дающему реальное и решительное превосходство, пусть лишь в определенном месте и в определенный момент. Между прочим, это один из вариантов все того же принципа Гудериана «Klotzen nicht Kleckern!» – «Бейте, а не шлепайте!», сиречь не пытайтесь достичь успеха везде, а сосредотачивайте максимум наличных средств и ресурсов в одном месте, где вы чувствуете себя наиболее сильными.
В данном случае Советский Союз, не имевший к началу 1930-х годов вообще никакой автомобильной промышленности, не мог даже надеяться соперничать с крупнейшими армиями мира по уровню моторизации. Но использование танков давало шанс уравновесить это отставание достижением преимущества в другой области, поэтому нет ничего удивительного в том, что советская военная теория сделала основной упор на танки, а не на подвижную войну, сиречь блицкриг. Хотя, как мы убедились, еще на рубеже десятилетий Калиновский прекрасно понимал суть блицкрига, сформулировав ее гораздо яснее, чем Гудериан.
Впрочем, спор о том, кто же был истинным «отцом» теории блицкрига – Гудериан, Фуллер, де Голль или Калиновский, – не имеют особого смысла, ибо надо учитывать одну важную вещь: на поле боя войска руководствуются не книжной теорией, а практическим опытом, полученным в ходе предыдущих боевых действий.
История не знает случаев, когда те или иные теоретические достижения позволяли добиться решающего перевеса над противником. Даже введение технических новинок давало эффект только тогда, когда сопровождалось технологической возможность применения подобных новинок в массовом порядке. Что с того, что дредноутную схему линейного корабля придумал в 80-х годах XIX века русский инженер Степанов, если впервые она была использована англичанами двадцать лет спустя? Первые многомоторные бомбардировщики были спроектированы и построены в России и Италии, но на ход боевых действий Первой мировой войны это не оказало ровным счетом никакого влияния и волнует сейчас только любителей искать родину слонов в своем Отечестве.
Зато реактивные истребители, причем второго поколения, впервые массово применил Советский Союз, сразу же добившись весомого влияния на ход боевых действий в Корее. И это при том, что технический приоритет в создании и применении реактивной авиации, безусловно, принадлежит немцам, а превосходство в общем количестве реактивных машин к началу 1950-х годов бесспорно держали Соединенные Штаты Америки.
Точно так же приоритет в изобретении блицкрига и приоритет в применении этой тактики на поле боя вполне может принадлежать разным людям и разным армиям. Более того, часто случается так, что, придумывая одну вещь, изобретатель создает совсем другую. Один из пионеров электрического освещения, русский ученый Лодыгин, вообще-то разрабатывал вертолет – разведывательный геликоптер с электромотором, питаемым с земли по кабелю. По его мысли, такое устройство должно было заменить на войне привязные аэростаты, используемые для наблюдения за противником. А электрическая лампочка предназначалась всего лишь для освещения кабины аппарата – но именно благодаря ей имя Лодыгина осталось в истории…
Вот и Гейнц Гудериан, в середине 1930-х годов пропагандируя необходимость создания танковых войск, представлял себе танковую войну совершенно не той, какой она оказалась пять-семь лет спустя. Внимательно читая его книгу «Внимание: танки!», с удивлением обнаруживаешь, что пишет он о совершенно другой войне – вовсе не той, что в реальности вела Германия. Бессмысленно искать в этой работе описание той тактики танковых войск, какую вермахт использовал в своих победоносных наступлениях 1939-1942 годов. Ее там просто нет.
Куда более развернуто оперативных приемов и принципов танковых действий Гудериан касается в своей послевоенной работе «Танки – вперед!», хотя и здесь скорее склонен обсуждать организационные, нежели теоретические моменты. Он не говорит даже тех элементарных вещей, что мы изложили выше. Конечно, можно заподозрить, что «Быстроходный Гейнц» чего-то недоговаривал, чтобы не облегчать жизнь потенциальному противнику, но, судя по всему, многие вещи просто казались ему самоочевидными, не требующими специального подчеркивания. Это вообще очень распространенная ситуация: специалист ведет речь для специалистов и опускает элементарное, а дилетант видит в этом пропуске особый смысл.
Следует оговориться, что блицкриг никогда и нигде не был сформулирован в виде единой теоретической доктрины. Это позволяет отдельным исследователями утверждать, что блицкрига как явления не было вообще – а немецкие победы были либо случайностью либо следствием крайне низких боевых качеств их противников.
Действительно, с военной теорией в Германии 1930-х годов вообще все обстояло очень плохо. Генералитет старой школы (к которой принадлежали Гальдер и Браухич) стремился воевать без риска, главным фактором победы считая превосходство германской армии в уровне организации и в боевых качествах солдат. Именно поэтому Гальдер жаловался, что «солдат нынче не тот».
Сторонники танков (их можно условно назвать «молодой школой») пропагандировали маневренную войну. В ней мотомеханизированные войска обеспечивали не только успех операций на окружение, но и быстрый разгром противника с быстрым завершением кампании. Отметим, что в быстротечной операции высокий уровень организации был особенно важен: любая рассинхронизация приводила к нехватке какого-либо ресурса и в итоге к поражению. Но высокие организационные качества германской армии и германских штабов были настолько очевидны, что никто не стал бы их специально прописывать в военной теориии и военной доктрине…
Однако существовала и третья сторона: нацистское политическое руководство. Находясь в конфликте со «старым генералитетом» (ниже мы подробнее остановимся на причинах этого конфликта), оно неизбежно должно было обратить внимание на «молодую школу». Но куда важнее то, что Гитлер как политик очень боялся войны на измор – впрочем, мы видели, что от нее предостерегал еще сам Шлиффен. И когда сторонники «танковой войны» предложили такое средство, Гитлер их активно поддержал.
Следует учесть, что произошло это довольно поздно – только в начале 1940 года, в ходе подготовки плана войны против Франции. Лишь по ее итоговому плану, известному как «план Манштейна»,[27] танковые войска, объединенные в танковую группу Клейста, стали главным инструментом разгрома противника в Бельгии.
Таким образом, блицкриг представлял собой выражение немецкого стиля войны, помноженного на новейшие теории танковых действий. Но не менее важно, что он являл собой представление о войне, существовавшее у нацистов как революционной партии: победу должен обеспечивать быстрый натиск, подавляющий противника психологически. Ведь именно так Гитлер добился своих внешнеполитических (а затем и военных) успехов в Австрии, Чехословакии, Польше: оппоненты (англичане и французы) оказались растеряны и деморализованы действиями Германии, в результате не решились дать им отпор – хотя стратегически имели такую возможность.
Французская кампания показала правоту Гитлера (и «молодых генералов»): подвижная танковая война обеспечивает быструю победу даже над противником, превосходящим численно и не уступающим технически. Здесь можно сказать, что такой результат был достигнут в первую очередь за счет использования маневренных сил. Однако мы имеем два примера, когда победа была одержана исключительно действиями по принципам блицкрига: Норвегия и Крит.
В Норвегии англо-французские силы имели явное преимущество и в морских, и в сухопутных силах. ОКХ было против этой операции, считая ее безнадежной. Гитлер был вынужден планировать «Везерюбунг» с помощью «конкурирующего ведомства», ОКВ. Он пошел на огромный риск – и выиграл.
Справедливости ради надо признать, что окончательную победу в Норвегии обеспечил успех на Западном фронте, вызвавший эвакуацию англо-французских войск. Но факт остается фактом: немцы смогли высадить десант и закрепить за собой плацдарм в условиях полного господства противника на море. Да, германский флот понес существенные потери – но потери британского флота оказались не меньше, а при таких условиях победа стороны, выполнившей свою задачу, является неоспоримой.
Следующим примером «чистого блицкрига» стал Крит в мае 1941 года. И вновь эта операция планировалась без участия ОКХ, силами ОКЛ (Главное командование «Люфтваффе»). И опять задача выглядела нерешаемой: британцы не просто господствуют на море – у немцев вообще нет флота, за исключением пары-тройки итальянских миноносцев. При этом силы противника на Крите вдвое превосходят все, что немцы могут собрать для высадки с воздуха, к тому же немецкие войска могут перебрасываться не сразу, а малыми порциями.
О превосходстве в технике говорить просто бессмысленно: британские войска имели многочисленную зенитную и береговую артиллерию и хорошо оснащались автотранспортом, у них были даже пушечные танки «Матильда». Парашютисты могли противопоставить всему этому лишь минометы и 37-мм противотанковые пушки, бессильные против 60-мм английской брони. Немцы имели лишь превосходство в воздухе, но по британским отчетам (не мемуарам и не позднейшим документам) воздействие «Люфтваффе» на сухопутные войска было в основном психологическим.
И тем не менее безумная операция увенчалась успехом. Британское командование было подавлено в первую очередь психологически: сначала оно ожидало высадки с моря, затем не смогло вовремя сосредоточить против парашютистов достаточных сил, потом постоянно запаздывало с принятием решения – и шаг за шагом отступало. Войска оказались деморализованы этим отступлением, в итоге превратившимся в бегство.[28]
Блицкриг, которого не существовало, победил.
26
К. Б. Калиновский. Проблемы маневренной войны с точки зрения механизации и моторизации // Красная зве зда, 1930, № 161, 164.
27
Документы ОКХ показывают, что первоначально идея отрезать войска противника в Бельгии ударом через Арденны принадлежала именно Гитлеру. Манштейн сформулировал ее независимо от фюрера – однако его энергия позволила эту идею «продавить».
28
Позднее британские (и не только) историки и публицисты приложили массу усилий, чтобы найти оправдание столь невероятному поражению. Было сочинено (вполне сознательно) множество легенд, на разные лады объясняющих причины неудач британских войск. Зачастую эти легенды противоречат фактам – но имеют хождение до сих пор, поскольку удобны. Справедливости ради заметим, что послевоенные официальные военно-исторические работы этих легенд не содержат, они описывают события весьма честно и по возможности беспристрастно. См., к примеру: Gavin Long. Greece, Crete and Syria. (Australia in the War of 1939-1945. Series 1. Vol II). Canberra, 1953.