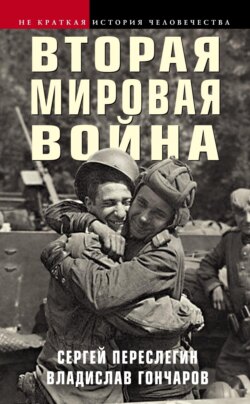Читать книгу Вторая мировая война - Владислав Гончаров - Страница 5
Часть первая. Европейский пролог
Сюжет второй: от Версаля до Глейвица
Короны на мостовых
ОглавлениеПервая мировая война завершилась масштабной социальной и культурной катастрофой. Австро-Венгрия прекратила свое существование. Оттоманская империя распалась, была оккупирована и раздергана на куски. Германия лишалась восточных провинций, Эльзаса и Лотарингии, выдала победителям флот, уничтожила авиацию, ликвидировала военное производство. Россия утратила социальную целостность, на ее просторах бушевала революция. Франция была полностью обескровлена, Великобритания потеряла финансовую независимость. Даже Соединенные Штаты, сравнительно слабо пострадавшие от войны, оказались неготовыми к неизбежному послевоенному экономическому кризису: их ждали голодные «марши ветеранов» на Вашингтон.
Европа голодала. Пришедшая из Юго-Восточной Азии эпидемия гриппа-испанки унесла новые миллионы человеческих жизней. Все происходило буквально по предсказанию Энгельса: «Крах такой, что короны дюжинами валяются по мостовым, и нет никого, чтобы поднять эти короны…»
В этой ситуации все зависело от того, смогут ли правящие элиты предложить своим народам внятный формат существования, объяснив, во имя чего были принесены военные жертвы, и какая есть гарантия того, что глобальная война не повторится.
Первый «ход» был за союзниками. В Версале, Сен-Жермене, Трианоне, Нейи и Севре были заложены основы нового демократического миропорядка, основанного на идее демократии, суверенитета народов и права наций на самоопределение. Много писали и сейчас пишут о грабительском характере Версальского мира, – но ирония судьбы заключается в том, что державы-победительницы и их лидеры действительно стремились к справедливому миру. Увы, Европа издревле представляла собой кипящий «котел народов», структурируемый наднациональными империями. Провести в ней этнически обоснованные границы было невозможно. Необходимость как-то учитывать императивы военной и экономической безопасности вновь создаваемых государств «возводила эту невозможность в квадрат». Руководство союзников сплошь и рядом отступало от принципов справедливости, руководствуясь своими симпатиями и антипатиями, – а зачастую и обыкновенной местью. Как ни странно, это скорее пошло на пользу делу: в совсем справедливо устроенной Европе новая глобальная война вспыхнула бы уже в середине 1920-х.[9]
Советская Россия оказалась вне Версальского миропорядка. Она не стала ни победителем, ни проигравшим, она вообще оказалась вне пространства привычной политической игры. Плохо ли, хорошо ли, но правительство Ленина претворило итоги Великой войны в грандиозное революционное строительство: создавался не режим, даже не государство, а совершенно новая культура. Эта культура, основанная на глубочайшем социальном перемешивании, «включении в историю» тех социальных слоев, которые испокон веку существовали вне мировых событийных потоков, придании едва ли не эсхатологического смысла человеческой деятельности, была в начале XX века, в эпоху «революции масс» (по Ортеге-и-Гассету), очень и очень притягательна для многих.
Германия была разбита на полях сражений, но предпочла этого не заметить. Версия об «ударе в спину» – со стороны собственной социал-демократии или трусливых австрийцев болгар и турок – появилась еще до окончания Парижской конференции. Подписывая Версальский договор, немцы не скрывали, что делают это, лишь подчиняясь силе. Было очевидно, что рано или поздно, но одна из величайших культур Европы найдет возможность противопоставить этой силе свою.
Наконец, на политическую арену Европы вышли Соединенные Штаты, впервые проявившие в годы войны свои возможности. Версальский мир был подписан под диктовку Великобритании, – но американский истеблишмент, отказавшись ратифицировать систему мирных договоров, сразу же дал понять, что старый миропорядок будет пересмотрен.
По крайней мере две державы (Италия и Япония), формально отнесенные к категории победительниц, не получили в Версале того, на что они рассчитывали, и перешли в категорию «обиженных». Изначально нежизнеспособным образованием стала Югославия: власть в этой многонациональной и мультикультурной «мини-империи» союзники передали сербскому правящему дому, проигнорировав интересы и остальных наций, включая хорватов, которые эту Югославию первоначально и создавали. Румыния и Венгрия с самого начала имели взаимные территориальные претензии. Польша, пользуясь благоволением победителей (в первую очередь Франции), сразу же захватила обширные территории Литвы, Украины и Белоруссии, в процессе их колонизации предвосхитив те методы, которые позднее будут использованы нацистами на территории самой Польши… Даже Чехословакия, изначально имевшая репутацию мирной и неагрессивной (хотя в 1918-1919 годах ее войска успели всласть пограбить на территории России), получила населенную немцами Судетскую область – что было залогом неизбежного будущего столкновения с Германией. Одновременно она втянулась в вооруженный конфликт с Польшей из-за Тешинского горнорудного района.
Если до войны Европа была «рабочим пространством» одного, хотя и очень серьезного взаимного конфликта[10], то теперь очагов войны оказалось несколько десятков.
С сугубо формальной точки зрения наименее разрешимой была проблема Восточной Пруссии. Отделенная от остальной территории Германии Данцигским (или Польским) «коридором», эта область обладала отрицательной связностью. Германия не могла ни отказаться от данной территории, ни защищать ее в рамках «позиционной игры на мировой шахматной доске». «Данцигская проблема» стала гарантией будущей европейской войны.
9
Правда, вероятнее всего, эта война не приобрела бы таких масштабов, как конфликт 1939-1945 годов. Не исключено, что в этом случае «настоящая» Вторая мировая случилась бы еще позже – и при другом раскладе воюющих сторон.
10
Мы имеем в виду конфликт между Францией и Германской Империей вокруг Эльзаса и Лотарингии, аннексированных немцами после войны 1870-1871 годов.