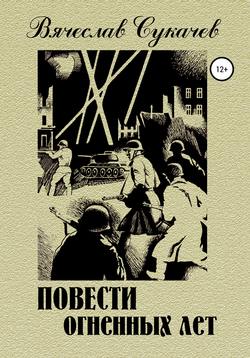Читать книгу Повести огненных лет - Вячеслав Викторович Сукачев - Страница 11
Военная
Глава десятая
Оглавление– Товарищ сержант, вы из какого села будете?
– Из Покровки.
– А я из Софийска.
Молоденький солдат восхищенно и радостно смотрел на нее. Наверное, он завидовал ее наградам, сержантскому званию, нашивкам за ранения.
– Воевали, товарищ сержант?
– Воевали, – вздохнула она.
– Теперь домой?
– Домой.
– А я на побывку. Десять дней без дороги дали. За пожар отметили…
Она уже не слушала, хотя и не хотела обидеть этого солдатика, которого могло сейчас не быть на земле, родись он на год раньше…
Теплоход мерно покачивался на волне, и она вспоминала, как добиралась в Хабаровск в июле сорок первого. Как пряталась за ящиком и пила с Осипом самогон, со страхом думая о неизвестном будущем. Минуло четыре года, уже нет того человека с косой челочкой и нет его армии, так остервенело бросившейся на земли русские, она возвращается аж из самого Берлина, а будущее, будущее, как было, так и осталось неизвестным. Матвей на ее письма не отвечал. Ни одного письма она от него не получила. До сорок третьего года писал ей свекор Петр Гордеевич. Когда свекор скончался, изредка присылала письма Мотька. А всего за четыре года набралось семнадцать писем, из которых она узнала, что через месяц после ее отъезда Матвей стал похаживать к Варьке Рындиной, а в сорок третьем году, схоронив отца, совсем перебрался к ней. И еще узнала, что Оленька зовет Варьку мамой, а про нее, Серафиму, говорит: «Мама меня босива, мама нехороса». И было от чего задуматься Серафиме, было чему подивиться.
А за кормой теплохода проплывали с детства знакомые места, горбатились сопки, грустно стояли темные, притихшие деревеньки, за войну потерявшие многих своих лучших мужиков. Смотрела на все это Серафима, и сердце щемило от боли, от печали неведомой наворачивались на глаза слезы и тут же просыхали под теплым ветром…
– Сестричка, закурить не найдется?
– Найдется. – Она оглянулась, с трудом уходя от своих мыслей. Перед ней стоял высокий крепкий мужик в выцветшей до белизны гимнастерке и широченных черных шароварах. Левый рукав был подвернут до самого плеча и перетянут суровой ниткой.
– Отвоевалась?
– Да уж хватит.
– Вот и я отвоевался,– усмехнулся мужик, закуривая кислую трофейную сигарету, – теперь хоть головой да в воду.
– Чего так?
– Да так, сестричка. Ты-то ещё домой на крыльях летишь, а нас уже встретили…
– Где руку потерял-то?
– Под Ельней… Слышала?
– Слышала. И мы недалеко от тех мест были.
Мужик облокотился на перила, курил. Закурила и Серафима.
– Чего без мужика-то? Многие с мужами возвращаются.
– Мой дома.
– Ну? Как же отпустил?
Мужик разговаривал с необидной насмешливостью. И в то же время в нём самом чувствовалась какая-то боль, заставлявшая приглядеться к нему, найти причину этой боли, и, может быть, именно поэтому хотелось рассказать о своём, поделиться, облегчить душу.
– Сама ушла. Еще в сорок первом, – тихо сказала Серафима. – Тебя как зовут-то?
– Иван. Иван Рубцов.
– А меня Серафима. Я-то ушла, да и он ушел.
– На фронт?
– Нет, к бабе.
– Так зачем едешь? Дерьма такого везде хватает…
– Дочка у меня, Оленька.
– А у меня баба скурвилась, – просто сказал Иван Рубцов, – скурвилась и удрала. Люди с голода пухнут, а она в торговле зад отъела, ну и крутить им начала.
– Теперь куда?
– А черт его знает. Куда-нибудь. Вот до Николаевска доберусь, а там посмотрю. Дружок у меня в Николаевске живет, вместе воевали, только я без руки, а он без ноги остался. Вот мы скооперируемся, да, глядишь, вдвоем-то чего и сообразим.
Помолчали, близко и хорошо понимая друг друга, и еще то, что вместе с последними выстрелами война для них не закончилась, что, может быть, еще долгие годы будут носить они на себе ее печать.
Ивана Рубцова Серафима запомнила надолго. Лет через пять встретила она его и не узнала. Был он счастлив и вел под руку маленькую добрую женщину, тесно приникшую к его плечу…
А уже показались из-за утеса первые дома Покровки, и Серафима так жадно потянулась к ним взглядом, что Иван догадался, кашлянул и ласково сказал:
– Ну, сестричка, прощай! Да не унижайся там, пошли его к черту… Ты же солдат, хоть и баба. Так что не срамись.
И он ушел по палубе, дымя трофейной сигареткой, а она подхватила свой чемоданчик, вздохнула глубоко и пошла к выходу, чувствуя, как колотится сердце и краска наплывает на лицо.
Трудно сказать, почему Серафима не решилась идти верхней улицей, а пошла вдоль Амура, по длинной, песчаной косе, потом по галечнику, поднялась на взгорок, минула овражек и по тропинке взошла на берег. Получилось так, что уходила она крадучись и вернулась тайком. Все как-то неладно складывалось в её жизни, и кто тому виной – разве доищешься. Нет, вины за собой Серафима никакой не чувствовала, но гордости, что вот она, Серафима, прошла всю войну, прошла с боями, на передовой была и ранена, и смерти в глаза смотрела, у нее не было. Перед родным селом, перед домом все это как-то враз позабылось, отодвинулось, словно далекий и трудный сон, и осталось лишь горькое чувство потери, которое переживает всякий человек, после долгой разлуки возвращающийся домой.
Она взошла на берег, обогнула раскидистый куст боярышника, увидела свою избу и остановилась. Сил идти дальше не было. И смотреть на свою избенку в два окна, крест-накрест заколоченных досками, на свой дворик, густо и пышно заросший бурьяном, на обвалившуюся трубу – она тоже не могла. От всего этого веяло таким одиночеством и запустением, что спазмы перехватили горло, стеснило дыхание, заныло, заболело простреленное плечо, и Серафима, торопливо отвернувшись, присела на свой чемоданчик, закурила трофейную сигаретку. Но тут же выплюнула ее в траву и свернула самокрутку из махры, крепко затянулась, прикрыла глаза, чувствуя, как мягко кружится голова и колотится, колотится сердце.
Многое встало за эти минуты перед ее глазами: полустершиеся черты лица дочери, яма в лесу под выворотнем, в которой она ночевала на пути к фронту, удивленный взгляд Пухова, немецкие танки в широком осеннем поле, умирающий глаз ездовой лошади, веселая и добрая улыбка свёкра, аккуратные улочки Магдебурга, белесые ресницы Матвея, смех Оленьки, оторванная рука Коли Бочарникова, Осип на палубе парохода, вой авиабомбы и лениво-спокойный Рыбочкин, мелкие морщинки тётки Матрены и холодные губы угоревшей матери, разбитые фермы моста через Днепр, широкая ладонь отца, мертвые дети в затопленных подвалах, жаркий лязг гусеницы над головой, Оленька с куклой, пикирующий бомбардировщик, спокойное и бледное лицо Пухова, русский танкист, вспыхнувший факелом и с жалобным стоном покатившийся по траве, ее молоко на щеках Оленьки, шинели на колючей проволоке, простреленный портрет человека с косой челочкой и ослепительные вспышки ракет над Днепром… Серафима медленно сползла с чемоданчика, легла в траву, уткнулась лицом в землю и заплакала. Она плакала за всё и за всех, и за себя в первую очередь. Плакала безысходно и долго, как могут плакать лишь женщины, оплакивая свою незадавшуюся судьбу и готовясь к новой жизни…
По заросшей тропинке она подошла к дому, потрогала замок на дверях, поискала в бурьяне и нашла заржавленную ось от тележки, двумя ударами сбила замок, распахнула дверь и вошла. Дом был пуст, лишь в углу лежал перевернутый вверх ножками деревянный топчанчик, на котором некогда спал свекор. На полу валялись желтые обрывки газет, какие-то пузырьки, разбитая табуретка, кусочки стекла, полуистлевшие лоскутки и просто мусор. Она разгребла его ногой и увидела грязный треугольник письма. Подняла и развернула. Письмо было от нее.
«Здравствуйте, дорогие отец, Матвей и доченька Оленька», – прочитала она и не стала дальше читать, положила письмо на подоконник и задумалась. Потом решительно одернула гимнастерку под ремнем, поправила пилотку с пятиконечной звездой, достала из чемоданчика сверток и вышла из дома, оставив распахнутой настежь дверь.
Тихие сумерки опускались на землю, но красный ободок солнца еще выглядывал из-за сопок, и в той стороне плыли по небу розоватые облака, и красное зарево вставало над горами. Серафима шла, не чуя от волнения под собою ног, и словно бы пила окружающий простор жадными глазами, вдыхая с детства знакомый запах дыма от еловых дров. Она не замечала, как удивленно и любопытно смотрят на нее из окон домов старики и дети, как выскакивают они на улицу и провожают ее взглядами, перебегают от двора к двору, о чем-то перешептываясь и показывая на нее пальцем.
Она нигде не остановилась и не задержалась, а прямо прошла к дому Варьки Рындиной, уже тогда стоявшему под железом, поднялась на крыльцо и с той же решимостью, которая пришла к ней еще в своей горенке, открыла дверь.
– Здравствуйте, люди добрые, – с порога сказала она и увидела, как побледнел, вытаращив глаза, Матвей, как поперхнулась Варька и затряслась от кашля уже тогда широкая ее спина, как девочка-подросток удивленно и испуганно посмотрела на нее, потом на Матвея и Варьку. – Не ждали?
С минуту в комнате стояла тягостная тишина, потом Матвей вдруг засуетился, чуть ли не бегом принес из горницы табуретку и глухо сказал:
– Проходи, садись.
– Да я не к столу пришла, – отказалась Серафима, – а за дочерью.
Матвей растерянно помигал белесыми ресницами и посмотрел на Олю.
И тут ожила Варька. Отставив стакан с молоком, она повернулась к Серафиме, смерила ее взглядом с головы до ног и сказала Матвею:
– Тебе управляться пора. Иди. И Ольгу с собой возьми, пусть помогает.
Матвей послушно направился к двери, а следом за ним и Оля, бочком выбравшись из-за стола. Серафима с болью, неотрывно смотрела на дочь, узнавая и не узнавая ее. Некогда курносенький нос ее выправился, пропала пухлость губ и щек, она подтянулась, выросла и невольно казалась Серафиме чужой. И в то же время каждая черточка лица ее была знакома и родна Серафиме, родна до головокружения и тихих слез, и Серафима, сделав шаг навстречу и выронив сверток, из которого выпала маленькая белокурая кукла, горько прошептала:
– Оля, доченька, Олюшка!
Девочка задержала шаг, какая-то тень промелькнула по ее лицу, казалось, она с трудом вспоминает что-то, но в это время Варька строго и властно окликнула ее:
– Оля! Я чего тебе сказала делать?
Еще мгновение она смотрела на Серафиму, потом нахмурилась и бегом пробежала мимо нее.
Варька неторопливо достала лампу, протерла стекло и засветила. Так же неторопливо пошла в горницу, побыла там недолго и, вернувшись, протянула Серафиме какую-то бумажку. Это была метрика на имя Рындиной Ольги Матвеевны.
– Что это? – тихо прошептала Серафима.
– А ты не видишь? Я могу очки принести. – Варька смотрела холодно и зло.
– Но как же? – Серафима не находила слов.
– А просто, – усмехнулась Варька, – похоронка на тебя пришла, вот и как же.
– Да я ведь через месяц писала, Варя… Писала, как и что там у меня вышло.
– Писала, – кивнула головой Варька, – да поздно уже было.
– Как поздно, Варя, ведь я мать! – Серафима прислонилась к стене, потом машинально нагнулась и подобрала куклу.
– Да какая ты мать? – В голосе Варьки начали пробиваться визгливые нотки. С грохотом собирая посуду со стола, не глядя на Серафиму, она все громче и громче выкрикивала: – Какая ты мать, если ребенка своего бросила! Последняя зверюга так не поступает, как ты поступила. Думаешь, я мало мук с нею вынесла, думаешь, мы здесь от жира лопались, пока ты там воевала? Да и как ты там воевала, ещё никто не знает…
– Ты вот что, Варвара, – покраснела Серафима, чувствуя, как крошечные молоточки застучали в висках, – ты мою войну не трогай. Говори, да не заговаривайся.
– Ишь ты! – изумленно вздернула тонкие брови Варька и, вдруг бросившись к двери, сильным ударом распахнула ее. – В таком случае, дорогая вояка, вот бог, а вот порог. Выметайся, и чтобы духу твоего здесь больше не было. Выметайся, голубушка, а то ведь я на медали твои не посмотрю…
Стыдно и больно стало Серафиме, стыдно за Варьку, больно за себя. Положив куклу на стол, она прошла мимо торжествующей, кипящей от непонятной злости женщины. Но в последний момент все-таки сдержала себя и остановилась, и как могла спокойно, примирительно сказала:
– Варвара, я ведь мать ее… Неужто у тебя сердца нет? Постыдилась бы, Варя.
– Постыдилась?! – Варька задохнулась и несколько секунд стояла с открытым ртом. – Ты… ты меня стыдишь, шлюха солдатская!
И тут Серафима не выдержала. Громко застонав, она коротко и резко ударила Варьку по шее, от чего та мгновенно замолкла, вытаращив наливающиеся болью глаза, а Серафима бросилась вон из дома, боясь еще здесь, на виду у Варьки, расплакаться. Когда выходила за калитку, услышала наконец-то прорезавшийся громкий Варькин вой. В это время кто-то бросился к ней, маленький, тяжелый, повис на шее, обдавая свежим запахом черемши.
– Сима!
И тут только Серафима узнала Мотьку, неожиданно располневшую за четыре года, налившуюся ядрёной бабьей силой…
Сидели в крохотной Мотькиной избе, ели отварную картошку с черемшой и пили трофейный коньяк. Мотька, опьянев с первой же рюмки, громко возмущалась, выслушав рассказ Серафимы.
– Так она же теперь председательша, Сима, в сельсовете засела. Она, змеища, чуть чего еще и милиционера на тебя натравит. Как только похоронка на тебя случилась, вот уж она тут забегала, заегозила: в район, из района, туда, сюда, пока Ольгу на свою фамилию не переписала, не успокоилась ведь. А люди-то дураки, ей всё это ещё и в заслугу поставили. Вот, мол, Варька какая, Матвея примаком взяла, да еще и сироту удочерила. А Матвей, я приметила, вначале мучился сильно, несколько раз ко мне забегал, все спрашивал, нет ли от тебя письма. А потом, как ты написала, обрадовался, аж слеза его прошибла…
– Матвей? – не поверила Серафима.
– Ну да, Матвей, – заулыбалась Мотька, видя, что Серафима постепенно приходит в себя, и все больше интереса проявляет к ее рассказу. – Он ведь любит тебя, Сима, ещё с парней… Я же помню, как он за тобой увивался, только из Варькиных лап ему не выбраться, не на ту напал. Она его крепко связала по рукам, по ногам. Хваткая, зараза, даром что яловая, а своего не упустит.
– Да не трогай ты ее, – поморщилась Серафима, – баба же она, вот и думает, что я Матвея хочу у нее забрать… А мне Матвей не нужен, мне дочка нужна… Она это хорошо понимает, мол, пока Оля при ней, и Матвей никуда не денется. Вот и взбеленилась на меня. Ладно, успокоимся обе да все и выясним.
– Ой ли, Сима, – покачала головой Мотька.
– А вообще, Мотя, на сегодня хватит об этом! – отрубила Серафима. – Как вы тут хоть живете?
И потянулся долгий бабий разговор, за каждым словом которого чувствовалось Мотькино одиночество и Серафимина тоска по дочери, по мирной жизни, по родному селу.
Уже улеглись спать, когда Мотька тяжело вздохнула и полусонно сказала Серафиме:
– А мужиков-то в селе почти совсем не осталось, Сима…
Весть о том, что Серафима ударила Варьку в первый же день приезда, мгновенно разнеслась по селу. Мужики посмеивались и одобряли Серафиму, бабы же насторожились и к Серафиме относились сдержанно. Все они как-то мимо внимания пропустили, что Варька ведь Ольгу ей не отдала, не вернула Ольге ее настоящую фамилию и что теперь даже того не понять, кем Матвей Лукьянов приходится Ольге. Все они видели лишь одно – статную красоту Серафимы, ее необычайную славу, военную выправку и медали на гимнастерке. Сами матери, они и думать забыли, что Серафима в первую голову тоже мать. И Серафима, чувствуя этот холодок отчуждения, замкнулась в себе, затаилась, и лишь Мотьке поверяла свои горести, свою тоску по дочери.
На другой же день, сняв военную форму, Серафима облачилась в старенькое, еще довоенное платье, с удивлением обнаружив, что разучилась носить женские вещи, и, чувствуя себя в нем как-то неловко и голо, пошла в правление колхоза просить работу. В аккурат начиналась летняя путина, и её направили в посолочный цех, пообещав со временем подобрать работу более подходящую. Однако от этого обещания она решительно отказалась, и молодой председатель, Сергей Иванович Козлов, бывший комсомольский работник флота, удивился:
– Мы ведь почему, – заговорил он, слегка робея, – учитывая ваши заслуги перед Родиной…
– Не надо ничего учитывать, – оборвала председателя Серафима, – никаких особых заслуг у меня нет… А если браться за учет, так полстраны надо учитывать.
И это тоже не понравилось женщинам.
– Гордячка, – говорили они между собой, – выкомаривается. Ей почет оказывают, а она ломается, корчит из себя.
А Военная плакала по ночам. Попыталась пойти в сельсовет, к Варьке, Варваре Петровне теперь, но та захлопнула дверь перед самым ее носом.
И опять говорили женщины:
– Бесстыжая, неужто драку в Совете хотела учинить?
– Дак, с нее станется.
А Военная по вечерам тайком пробиралась к Варькиному дому, и часами лежала в огороде между картофельных грядок, чтобы хоть на минуту взглянуть через окно на дочь. И опять плакала, кусая руки, боясь взвыть от великого бабьего горя.
А потом из района приехал милиционер. Он пришел к Серафиме, громко топая сапогами, грозно сел за стол, достал какие-то бумаги и вдруг увидел на стене фотографию в рамке. Поднялся, посмотрел, сравнил с Серафимой, грустно сидящей на топчанчике, и неожиданно воскликнул:
– Прости, сестричка!
И ничего больше не сказал, и записывать ничего не стал, а пошел в сельсовет и уехал вскорости.
Варька, Варвара Петровна, после этого долго дозванивалась в район, дозвонившись, плакала и ругалась.