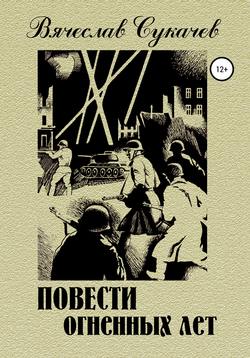Читать книгу Повести огненных лет - Вячеслав Викторович Сукачев - Страница 9
Военная
Глава восьмая
Оглавление– Любил он тебя, Сима. – Никита, свежевыбритый, в новенькой свежей сорочке с распахнутым воротом и закатанным рукавом, открывавшим сильную руку, сидел напротив Серафимы за кухонным столом и грустно смотрел на нее. Он лишь недавно встал – под глазами еще морщинилась отмякшая за ночь кожа, – умылся и охотно пропустил стакан Мотькиной наливки. От второго решительно отказался и вот сейчас завел вдруг разговор о том, чего они вчера оба почему-то побоялись касаться. Завел просто и сразу, словно продолжая когда-то начатую и неоконченную мысль, и она совсем не удивилась, хотя за всю войну они и словом не обмолвились об этом.
«Любил, – как-то отстраненно и невесело подумала Серафима, разглаживая ладонью клеенку на углу стола. – Любил? Не то слово, наверное, не то… Любить-то каждый горазд, а как полюбил, так и норовит побыстрее все к своим рукам прибрать. Мое! Моё, мол, никто не трожь, глазом остановиться не вздумай. Разве это любовь? Так-то и за домом следят, и за огородом, и за собственным костюмом или велосипедом. И ведь тоже любят – и дом, и огород, и костюм, и велосипед. Нет, у Пухова было что-то другое».
– А ведь и словом никогда не обмолвился, – удивился Никита и посмотрел на Серафиму.
– Так почему знаешь-то? – помедлив, спросила она и сильно затянулась папиросой, так что на щеках образовались темные впадины, а высушенная годами и заботами грудь высоко поднялась и опала.
– А по глазам, Сима. У него по глазам о многом можно было догадаться. Сам – кремень мужик, а глаза детские. Я потом еще только раза два такие-то встречал.
Серафима не сдержалась и усмехнулась легонько: получалось смешно – Никита объяснял ей глаза Пухова.
В глазах Пухова всегда было удивление. Такой взгляд она помнила только у дочери. Казалось, он постоянно удивлялся всему: восходу солнца, танковой атаке, горячему обеду, смерти, трофейному автомату, крику птицы, потере орудия, собственной жизни, ровному полю и густому лесу, отступлению и форсированию Днепра… Он сердился, и голос его становился неприятно жестким, скрипучим, как новая портупея, а глаза продолжали удивляться, может быть, чуть пристальнее, чем всегда. Менялось только это чуть, но удивление оставалось. Года через два после войны Серафима была сильно и неприятно поражена тем, что не может вспомнить цвета его глаз. В памяти осталось только их выражение.
Сразу после Москвы в батарею пришел длинный и нескладный, шепелявый верзила Михаил Рыбочкин. Он был храбр и дерзок, иногда храбр безрассудно. Но в батарее его невзлюбили с первого дня и не любили – до последнего. Какая-то первобытная сила и беспощадность угадывались в его нескладности, длинных мощных руках, больше смахивающих на стальные рычаги, в крупных, слегка навыкате, голубых глазах. На войне убивает каждый и каждый рискует быть убитым, это жестокий, но непреложный закон войны. И к этому с трудом, не сразу, но привыкают. Однако и за этой привычкой даже у самого сурового солдата чувствуется отвращение к убийству. Ибо человек, сам по себе, рожден не для этого. Рыбочкин убивал с удовольствием. Война была его стихией. В ней он чувствовал себя как бог, обладал звериным инстинктом, точным чувством опасности и холодным рассудком. Не раз и не два это хладнокровие и отчаянная смелость Рыбочкина спасали жизни многих батарейцев, но и эти люди, обязанные ему жизнью, не любили его.
На второй или третий день по прибытии Рыбочкин встретил Серафиму одну, встал на ее пути и весело сказал:
– Сто, Сима, гуляесь?
– Пусти, – спокойно попросила она и хотела пройти. Рыбочкин взял ее за плечо и придержал.
– Торописся?
От его прикосновения Серафиме стало почему-то мерзко и страшно одновременно. Голова закружилась, а ноги вдруг сделались непослушными. Рыбочкин же оставался равнодушно-спокоен.
– Пусти! – побледнела Серафима.
– Брезгуись?
– Да!
– Война больсая будет, Сима, я подозду. Я терпеливый. Потом сама придесь.
Он отступил, и она ушла, почувствовав такое неожиданное облегчение, словно бы пережила смертельную опасность. Теперь она украдкой, с ненавистью и страхом, постоянно наблюдала за Рыбочкиным. Но самый большой страх она пережила тогда, когда с непонятной силой, остро и властно ее вдруг потянуло к нему. Это длилось только одно мгновение, слякотным, осенним вечером, когда она уже лежала на своем топчанчике в санпункте, но это мгновение запомнилось ей на всю жизнь. Где-то, она не знала где, зайцы сами прыгают в пасть удава. Таким зайцем в тот вечер она почувствовала себя.
За эту секундную вспышку Серафима долго и больно расплачивалась сама перед собой. Даже мысли об этом она пугалась до брезгливого отчаяния, не в силах понять, объяснить себе, как это могло случиться с нею.
Вторая встреча с Рыбочкиным случилась у нее почти полтора года спустя, далеко от Волги, в маленьком, разграбленном немцами селе. На этот раз она была спокойнее и, достав крохотный трофейный пистолет, объяснила Рыбочкину, что застрелит его, если он даже просто прикоснуться к ней посмеет. Рыбочкин на это странно усмехнулся, сделал какое-то движение, и в это время его окликнул Никита Боголюбов. Но так просто это закончиться не могло и не закончилось.
После тяжелых наступательных боев, в середине лета 1943 года, батарею капитана Пухова неожиданно отвели на отдых. Бог знает, кто этим распоряжался, но такой отдых всегда оказывался как нельзя кстати. К этому времени солдаты Пухова изрядно поизносились, оголодали, и отдых этот для них был гораздо большим, чем просто передышка.
Село, куда их отвели, удивительно мало пострадало от войны. Так случилось, что оба раза, при наступлении и отступлении немцев, село оставалось в стороне от линии фронта. В первый раз фашисты пришли по нему форсированным маршем, во второй – не менее форсированными темпами отступили на «заранее подготовленные рубежи».
Удивительны законы, по которым живет, развивается и умирает человек. В ином, разграбленном до предела фашистами селе приветят тебя, отдадут последние крохи, и ты надолго запомнишь удивительный свет чьих-то прекрасных от доброты глаз. А в этом же, где расквартировались батарейцы Пухова, клок соломы жалели сельчане для бойцов. Не в соломе, конечно, дело, но такого к себе отношения не ожидали батарейцы и там, где нельзя было выпросить, брали сами. А брали-то – одного петуха на всю гвардию только и добыли. Все остальное или съедено было самими сельчанами, или припрятано надежно… Черт их поймет.
И в этом-то селе, у этих неприветливых людей случилось то, чего ждала и боялась Серафима.
Рыбочкин взял ее молча и жестоко. Взял ночью, в постели, беззащитную и сонную. Взял равнодушно и спокойно, как берут вещь с комода. Потом лежал, курил. Потом лениво и насмешливо сказал:
– Так се, стрелять-то будесь?
Серафима, смятая и раздавленная, плохо понимая, что с ней и где она, молча встала с постели, долго искала пистолет, подошла к Рыбочкину и выстрелила в длинное белое тело.
Утром Рыбочкина увезли. Морщась от боли, прямо глядя в глаза Пухова, он почти потребовал:
– Следствий не нузно. Мы сутили. Я сам спустил курок. Запомни, командир, мы только посутили, и я скоро вернусь.
Глаза Пухова удивлялись, но под смуглой кожей щёк туго ходили желваки. Рыбочкин не выдержал пуховского удивления, отвернулся, и два бойца под руки увели его. Наверное, он что-то понял – в батарею Рыбочкин не вернулся.
Серафима заплакала через месяц. Уже давно позабылось село, где отдыхали они, его название и негостеприимность, когда она вдруг заплакала, второй раз за два с половиной года войны. Она плакала в блиндаже, один на один с Пуховым. Плакала долго и безутешно, еще раз с болью и отчаянием переживая свое унижение…
– Серафима, – Пухов звал ее только полным именем, – это надо забыть.
– Не могу, – она отчаянно затрясла зареванным лицом. Она никогда еще не была с Пуховым с глазу на глаз.
– Это надо забыть, Серафима, – грустно повторил Пухов, а его глаза удивлялись и охватывали Серафиму тем добрым светом, от которого порой отступалась и сама смерть.
– Я бы ненавидела всех мужиков, Пухов, если бы не ты, – она впервые назвала его по фамилии и впервые сказала ему «ты». И он не удивился, не растерялся от этого, а только взял ее руки и молча поднес к своему лицу. Она испугалась, что он хочет поцеловать руку, ту руку, которой касался Рыбочкин, и резко отдернула ее. И на этот раз он все понял правильно, и не обиделся на нее, а загрустил еще больше.
– Я бы любила тебя, Пухов, – всхлипывая, сказала она, – но у меня есть муж и дочка. Ее Оленька звать. Нынче пять лет исполнилось.
– Я знаю, – ответил Пухов, – у тебя есть муж и дочка Оленька.
– Я не виновата, Пухов. Я шла просто воевать. Ведь я не знала, что встречу тебя. С ним, с… этим… я не изменила мужу. А с тобой, Пухов, я бы изменила.
– Ложись, Серафима, отдохни. А я пойду.
– Нет, – она удержала его за руку, – посиди еще. Я ведь больше никогда тебе этого не скажу. Такое бывает только раз в жизни… Ты уж посиди рядышком, хорошо? Я мужа-то своего не любила, Пухов, никогда не любила. Он славный, простой мужик, другая баба возле него, может быть, и счастлива была бы, а я – нет. Но он мужик мой, и дочка от него. Ты вот однажды так на меня взглянул, что я и умирая, вспомню, и всю жизнь помнить тебя буду за один этот взгляд, а от него я ничего не помню, даже ласки забылись, не то чтобы взгляд… Он меня на фронт не пускал, потому что не верил мне, думал, что я ему изменять буду, а видишь, Пухов, так оно и вышло. Его правда получилась, а не моя, Пухов.
– Не надо об этом, Серафима.
– Я знаю, Пухов, ты бы понял меня. А он не поймет. Он до смерти меня за это судить будет. А ты говоришь – забыть.
И еще раз Пухов взял ее за руку, и поцеловал, и взглянул на нее, и в первый раз Серафима не увидела в его глазах удивления, а увидела боль и где-то, очень глубоко в них, подступающие слезы. Она растерялась на мгновение, потом легонько провела ладонью по его лицу и тихо попросила:
– Ты теперь уходи, Пухов…
И в этот день выбрала Серафима все свое женское счастье до донца, вместе со слезами выбрала. В последний раз. Через два дня капитан Пухов погиб. И лишь после этого узнала она, что звали его Володей. Владимир Михайлович Пухов…
– Кем бы он был теперь, а, Никита? – грустно спросила Серафима.
– Кто его знает, – не сразу ответил Никита, – может быть, генералом.
– Нет,– Серафима покачала головой. – Генералом, наверное, он бы не стал. С его-то характером и – в генералы? Нет… Налей, Никита, уж враз обоих и помянем.
– Как, обоих? – не понял Никита.
– Муж у меня вчера скончался, царство ему небесное. Мужем-то он мне в последний раз тридцать лет назад был, а не развелись, так под его фамилией и хожу.
– А что умер-то?
– Болел…
Они выпили наливки и посидели в молчании, потом глянули друг на друга и опять удивились, что вместе сидят, живы-здоровы, и не верилось им, что тридцать лет не виделись, казалось, что вчера лишь из окопов в разные стороны разошлись, а сегодня снова встретились на передовой, и вся война ещё впереди…
Пришел Осип. С порога сказал Серафиме:
– Привезли.
Серафима кивнула и задумалась.
– Собирайтесь, – деловито и решительно приказал Осип, – рыбачить поехали.
– Неужели мотор отремонтировал?
– А то! Как часы работает.
– Знаю я твои часы. Прошлым летом, забыл, два дня на косе куковали.
– Ну, то прошлым, – недовольно пробурчал Осип, – а это – нынешним.
– Поедешь? – спросила Серафима Никиту.
– Обязательно! – живо засобирался Никита. – Я до этого дела охотник большой. А ты?
– Я пойду… Туда схожу. А вы поезжайте. Чего дома сидеть-то. Поезжайте. А вечером посидим, еще поговорим. Да и вместе съездить успеем. Не последний день живем.
Осип и Никита ушли, прихватив с собою Мотькину наливку, а Серафиме вдруг тошно и грустно стало, и, сколько она ни курила, чувство это не покидало ее.