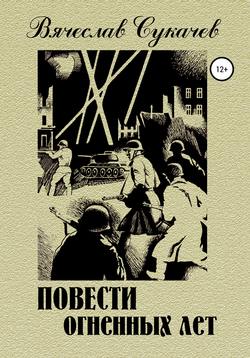Читать книгу Повести огненных лет - Вячеслав Викторович Сукачев - Страница 3
Военная
Глава вторая
ОглавлениеСуетня, шум и гам на палубе дебаркадера. Подав сходни, Серафима отошла в сторонку и привычно наблюдала, как торопятся люди с теплохода на землю, а деревенские приплясывают в нетерпении, желая поскорее взойти на теплоход. Странные люди. Вечно они спешат, вечно суетятся, а приходит черед и – нет человека. Выбыл из суеты, оставил сумятицу, успокоился. Казалось бы, хороший пример для молодых, ан нет, и они суетятся, и они торопятся, и тысячи лет не может человек научиться покою, и все потому, что он – Человек. А успокойся, притупи в себе сумятицу – и нет человека.
– Бруснички, кому бруснички?! – тонким голосом кричала Мотька, снуя между пассажирами.
– А почем? – спросил проезжающий.
– По деньгам, милок, по деньгам. Двадцать копеек стакан. Берите. Кому бруснички? Ягода рясная, посередке красная, по бокам стемна, ешьте досыта.
Деревенские пошли на теплоход. Первым дед Никишка. Сгорбленный, приниженный, торопливо просеменил по трапу и скрылся на палубе третьего класса. У деда несчастье, растратилась невестка на большую сумму, сидит под следствием. А дома четверо, и машина в гараже. Была. Дед на ней важно ездил, с заднего сиденья, как с трона, на людей смотрел. А теперь стыдится вот.
Прошли деревенские, и на дебаркадер сошел еще один человек – фронтовик. Этого Серафима заметила сразу. Хотя на первый взгляд все в нем было как у остальных людей. Руки, ноги, голова на крепкой шее, широкая, хотя и несколько сутулая спина. Но Серафима за свой век фронтовиков перевидала достаточно, всех мастей и рангов, имела к ним особое отношение и сразу приметила пустое выражение правого глаза, угловатое правое плечо и неестественную прямоту правой руки. Так бывает, когда справа, близко, разрывается граната или снаряд тяжелого калибра ложится в окоп, и тоже справа. Фронтовик был в хорошем костюме, чисто выбрит, не деревенский.
Кто-то тронул ее за руку. Серафима оглянулась. Перед ней стоял Осип и радостно улыбался, бледная кожа лица обмякла и как-то странно провисла на щеках, но блестящие глаза Осипа были полны блаженства.
– Готово, Сима.
– Помоги сходни убрать.
Пробасил гудок теплохода, проезжающие заспешили, затолкались в узком проходе на трапе. Осип отдал носовой, течение мягко и сильно начало разворачивать теплоход, тяжело плюхнулся в воду кормовой трос, и вскоре дебаркадер опустел, лишь Мотька пересчитывала копейки, да мелькали в воздухе серебристые чебаки – клев был сегодня хороший…
Молча откупорив бутылку вина, Осип старательно разлил в стаканы и закурил. Руки у него не дрожали. Серафима достала банку домашних огурцов, луковицу, черствый хлеб. Тоже закурила. Выпить почему-то не решались.
– Вот и жизнь, – вздохнул Осип Пивоваров, – да, жизнь.
– А что? – не поняла Серафима.
– Да как что, Матвей-то скапустился. Вот и что.
– А ты не каркай, Осип, не каркай, оно так-то лучше будет.
– Человек родится и думает, что родился для счастья…
– Он тогда еще ничего не думает, – усмехнулась Серафима, – орет только. Давай лучше выпьем.
Осип пил долго, мучительно, мелкими глотками. Большой кадык под бледной морщинистой кожей сновал по шее, словно челнок. Выпив, он еще некоторое время подержал стакан в руке, а отставив стакан, вновь потянулся за папиросой.
– Для счастья, – Осип закашлялся, что-то застонало, захлюпало в его груди. – Где счастье было, там… капуста выросла. – Он засмеялся, и смех этот было трудно отличить от кашля его. – Для счастья кто родится? Дурак да сволочь всякая. А простой человек, он для горя родится. Век живет, век мыкается.
– Ты бы закусил, – Серафима хмуро сидела за своим столиком, привычно опершись на локти и глядя прямо перед собой. – А счастье, Осип, оно сильным людям дается. Да и не всегда поймешь, где оно, счастье-то это.
– Это мы с тобой не понимаем, да вон Мотька еще, кубышка огородная, а люди понимают. Есть такие, что очень хорошо понимают. Ты много счастья-то видела, много? То-то же. – Осип заметно охмелел и стал не в меру суетлив, беспокоен, руки его не находили себе места, болтались без дела по воздуху. – Я-то свое счастье кайлом схоронил, ну и хрен с ним, а вот ты его за что лишилась, а, Серафима?
– Брось, Осип! – поморщилась Серафима. – Что ты, как баба, расфыркался. Да и что ты про мое счастье знаешь? Ничего. Так и не трогай его, не трогай… А свое проспал, на чужое не зарься. Это все одно, как чужие деньги считать.
Серафима сама разлила оставшееся в бутылке вино и, подняв стакан, сухо сказала:
– Давай за Матвея. Пусть выздоравливает. Рано ему еще.
В дверь осторожно постучали, потом еще раз.
Серафима вздрогнула, какое-то тихое предчувствие подступило к ней. Медленно поднявшись со стула, она отворила дверь и увидела перед собой давешнего фронтовика. Еще не успев удивиться, она мгновенно признала его, и отступила на шаг, и прижала руки к груди, и вдруг вскрикнула и бросилась к фронтовику.
– Сима! Симка! – изумленно и глухо сказал фронтовик. Правое веко его дергалось непрестанно.
– Никита! – с горькой болью прошептала Серафима. – Ники-ита, Боголюбушко ты наш.
Осип смотрел на них, и вино из стакана тихо капало на пол. Заметив это, он принялся пить, но закашлялся, перегнулся в поясе и сердито толкнул стакан на стол.
– Какими судьбами, Никита? – радостно спрашивала Серафима. – Да как же ты меня нашел? А я смотрю, фронтовик сошел, и не признала, а как дверь распахнулась… Да господи, как же и не узнать-то было. Разве глаз лишиться…
– Я тоже тебя не признал вначале, потом, как уж меня назвала, скумекал, – глухо гудел Никита Боголюбов, невольно смущаясь присутствием чужого человека и неловко чувствуя себя на пороге Серафимовой каморки.
– Места у вас вольготные, Сима.
– Да.
– Приволье. Экой простор-то вокруг.
– Простора хватает.
– И река красавица. Раньше я только про вальс слышал, а теперь и реку повидал. Амур! Хорошо. А ты, Сима, мало изменилась.
– Брось.
– Ей-бо!
– Все божишься? – улыбнулась Серафима.
– А че нам, крестьянам, бороду в кулак, да и ладно так.
– Ох, не верится мне, Никита, никак не верится. Все думаю, что сон вижу, и просыпаться страшно. Ведь тридцать лет, ты только подумай, Никитушка, тридцать лет прошло!
– Тридцать, – вздохнул Никита.
Они медленно шли по осиннику, оставив за спиною село. Дом Серафимы уже проглядывал сквозь деревья, и она невольно прибавила шаг, предчувствуя долгий счастливый вечер воспоминаний.
– Как у вас с выпивкой, – добродушно басил Никита, – в воскресенье ша, в празднички – по два?
– А то, – махнула рукой Серафима и засмеялась Никитиной шутке. – Ничего лучше придумать не смогли. У тебя семья-то есть?
– В обязательном порядке. Целая гвардия. Мал мала пинает из-под стола. В аккурат бы на наш расчет хватило…
– А я одна, – поторопилась предупредить вопрос Никиты Серафима. – Ничего, живу.
– Постой, – Никита поморщился, припоминая, – а муж, дочка же у тебя были?
Серафима, повернув голову к Никите, грустно посмотрела на него, тихо сказала:
– Потом, Никита. Потом я тебе все расскажу. Нет у меня никого.
И, уже молча, они дошли до дома…
– А я, понимаешь, сошел с теплохода и – прямым ходом в село. Смотрю, бабёнка навстречу бежит, я и спрашиваю ее, где, мол, тут у вас Серафима Леонтьевна Лукьянова живет. Военная, переспрашивает бабёнка. Военная, говорю я ей, она и указала. Шлепаю я назад, к дебаркадеру, а у самого сердце обмирает. Никак не могу поверить, что увижу сейчас Симку нашу, сестричку фронтовую. Ан, вишь, встретились.
Никита, скинув пиджак и закатав рукава рубашки, сидел в горенке за круглым столом. Серафима хлопотала на кухне. Петушиные перья летели в разные стороны, кипела вода в кастрюле, и сухо потрескивали смолистые еловые дрова.
– Сима, может быть, чего помочь? – Никита томился в бездействии.
– Отдыхай. Сейчас будем садиться.
– Уф, жарковато у тебя.
– И то, – спохватилась Серафима, – спасибо, хоть надоумил меня. Тащи табуретки в палисадничек. Там стол есть и прохлада от реки поднимается.
А уж вытащила Серафима из погребка огурцы малосольные и грузди хрусткие, тонкими ломтиками легли на тарелку лук и балык, вареные яйца для салата легонько дымились на столе, а скорлупу под навесом доклевывали куры…
– Выпьем, потянем, родителей помянем. – Стакан прочно сидел в широких пальцах Никиты. Сам он, улыбающийся, добродушный, выглядел празднично.
– Нет, Никита, – свела брови Серафима и прямо посмотрела на него, – поминать будем тех… За тех, кто не вернулся.
Минута пришла, минута и ушла, а они грустно помолчали в эту минуту, припоминая тех, кого давно уже не было на земле. Тридцать и более лет не было. И они впервые по-настоящему поразились своей встрече, поразились тому, что имеют возможность видеть друг друга, и это после того, что они перевидали и что пережили. Было удивительно им это, удивительно и больно. И еще успели подумать, что малого в жизни достигли, что те, кто не вернулся, достигли бы большего да и на память были б щедрее.
– Встанем, Никита.
И они встали, добавив к прошедшей минуте еще одну, которую хотели и должны были прожить за товарищей.
Выпили и задумались. Говорить пока не хотелось. Вернее, не находились еще те слова, с которых можно было начать разговор. Никита от выпитого погрустнел и ушел в себя, а Серафима смотрела на то, как постепенно угасает день и меняется цветом река, вобравшая в себя солнечное тепло и теперь готовящаяся отдать его ночи. Тихо было на земле. Удивительно. А когда-то думалось, что к тишине привыкнуть нельзя, что вечно будет давить она скрытой опасностью и вечно будут просыпаться солдаты от внезапной тишины.
Легкий ветерок перебирал листья осинок, многие из которых уже золотились по краям. От земли шло ровное спокойное тепло. А закуска на столе была не тронута. И ничего странного не было в том.
– Эх, Сима, наливай еще!
– Да ты бы сам командовал, товарищ старшина.
– Это можно… Это мы могём.