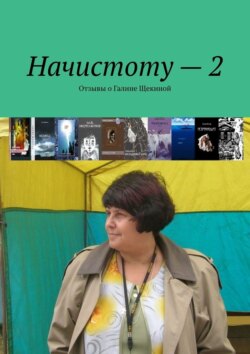Читать книгу Начистоту – 2. Отзывы о Галине Щекиной - Зоя Елизарьева - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Отзывы о творчестве Галины Щекиной
Анна Кашина. Парадоксы женской прозы Щекиной. («Улица Гобеленов»)
ОглавлениеВ мире множества лун,
В бесконечном движении мира,
Так звучит её лира:
Самой женской из струн… (А. Кашина)
Галина Щекина – писатель, критик, публицист, член Союза российских писателей, автор многих замечательных книг. И хоть она не является выпускницей суффиксовыделительного и красивоговорительного института, после которого многие словесницы с молодости преподносят себя состоявшимися писателями, но окончив экономический факультет Воронежского университета и пройдя серьёзную трудовую и журналистскую школу уже в Вологде, она научилась самостоятельно писать увлекательную пронзительную прозу. В мир большой литературы Щекина пробивалась, совершенствуя мастерство каждодневным упорным трудом, работая над ошибками, прислушиваясь к биению читательских сердец и метроному социума. Вот почему книги Галины Щекиной заслуживают внимания не только читателей и ценителей литературы, но и исследователей.
Речь пойдёт об одной из её книг. «Улица Гобеленов» – сборник повестей и рассказов о женщинах, проиллюстрированный гравюрами Евгения Шиперова. На обложке изображены девушка и женщина, улыбающиеся друг другу и взявшиеся за руки, что символично, ведь на страницах этой книги читателя ждут материнская и сестринская любовь, милосердие, забота, взаимовыручка. У каждой героини есть подруга, идеал. Вероятно, сборник назван по одному из рассказов не случайно. Автор намекает, что женские портреты не просто тщательно прорисованы, они как бы вытканы на разноцветном гобелене жизни, и нельзя ни убрать, ни добавить ни одной чёрточки. Женщины эти воспринимаются цельными фигурами, а истории их жизни – монументально-правдивыми.
Сборник включает три части. Первая из них, «Граня», состоит из восьми глав с общими персонажами. Эта часть, ранее издававшаяся отдельной книгой («Тонкая Граня»), рассказывает о девочке Гране, впоследствии – девушке и женщине, о её семье и ближайшем окружении, о её жизни в Малороссии в до- и послевоенное время. Вторая часть, «Нила», также состоящая из восьми рассказов, связанных единым сюжетом, посвящена ведущей литературного кружка, писательнице Ниле Волиной, нашей современнице. Завершающая часть, «И другие», составлена из десяти небольших рассказов о женщинах: «Беретик», «Варварин брат», «Тихо, Алфеева», «Хороший знак», «Улыбка на разломе», «Узел», «Драма на улице Гобеленов», «Лисёнок в сквозном лесу», «Дуновение Рождества», «Чай с коньяком».
Парадокс первый: горе по-женски
В аннотации на второй странице есть подсказка: «Женщины, чарующие и ужасные, влюбленные и отчаянные…» По замыслу автора, это книга о женщинах, о восприятии ими своей женской сущности, испытаниях, силе духа и характера в наполовину мужском мире, поэтому здесь позволительна некоторая скромность в прорисовке мужских образов.
Многие мужские персонажи в этой книге обладают скудным набором однообразных личностных черт. Как сироты в детском доме, они часто носят одинаковые имена. Эгоизм, строгость, нетерпимость, наплевательство, мрачность, внешняя непривлекательность, ущербность, даже некрасивость – вот черты этой категории. Даже весёлость, которая могла бы компенсировать другие недостатки, в большом дефиците. Богдан из «Грани», Назар, Санни и Митя из «Нилы», Густав Бауэр и Савва из «Чая с коньяком», муж Павлинки из «Хорошего знака» – нет среди них равных женским образам по силе, порядочности и характеру. Вероятно потому, что они призваны лишь оттенять масштаб личности героинь и провоцировать своими действиями или, наоборот, бездействием несчастья и отчаяние женщин. Некоторые и вовсе безымянны. Например, директор школы, который отчислил Злату, хотя у него «дёргалась бровь, и руки со списком дрожали» – вот и всё, что о нём сказано («Каникулы Грани»). Зато активистка в форме, пришедшая проводить агитацию в школе, «отчеканила, как много сейчас значат для страны трудовые резервы», являя собой противоположность трусливому директору. Об отце Грани известно, что он курил, был лыс и похож на Котовского, что у него был сильный кулак, когда он требовал подчинения своей воле, а ярко положительных качеств у него не обнаружилось, кроме, разве что, веры в коммунизм.
Сын Аллы Вадимовны («Чай с коньяком») попросту уходил из дома, если что-то было не так. Как и что он там переживал, неизвестно. Предательство отца, аборт девушки, развод, смерть бабушки – его душевные переживания остаются нам неизвестны, сказано лишь о пьянках и гулянках. Только повзрослев, Коля наконец-то влюбился и начал бороться за свою любовь. Здесь автор уделил место его переживаниям: «Коля превратился в зомби… Всегда можно отличить, когда человек дрожит над своим реноме, а когда он просто не хочет жить. Коля именно не хотел».
Санни («Сынуля») – неуравновешенный, заласканный матерью, со «лбом интеллигента» и веснушками, склонный к депрессии, яростно влюблённый в Ольгу и, в то же время, не способный работать «на работе», по крайней мере, в молодости. Его портрет становится несколько чётче лишь на фоне его жены, энтузиастки и умницы, которая создала все условия для его преображения: он «откинулся в кресле как Ленин, стал с годами ещё более причудливым, но без агрессии, был ласков и весел. Он к старости становился барином, благородным, величественным». Автор в каждом рассказе как будто вынимает из мужчин души-пустышки, рассматривает их, показывает читателю и помещает обратно. Тех, в ком есть искра, он пытается раздуть, ставя в разные жизненные ситуации, чтобы огоньки их душ засияли, или хотя бы для того, чтобы женщины могли с ними как-то жить (на бытовом, физиологическом уровне), раз уж нет возможности установить глубокую духовную связь.
Приятным исключением являются образы Лешека Ковальского и Егора из «Грани», Хазова из «Тихо, Алфеева», Наримана из «Лисёнка в сквозном лесу», отца Фёдора и самого Фёдора из «Улицы Гобеленов», Зимина, сквозного персонажа рассказов «Хороший знак» и «Улыбка на разломе». Эти герои заслуживают уважения и любви, героини им верят, симпатии автора на их стороне. В отдельную категорию можно отнести рассказ «Дуновение Рождества», где персонаж Филипп переживает смерть жены, и «Варварин брат», где герой Витя, пережив не одну трагедию, умирает (подробнее о них сказано ниже). По объёму больше комплиментов автора достаётся всё-таки героиням. Их характеры более увесисты, сложны, внешность (фигура, лицо, прическа, одежда) прорисована детальнее, некоторые из них просто красавицы, сделавшие успешную карьеру. Но переживания, доставшиеся им, порой невыносимы, а они, окрылённые надеждой, стараются быть счастливыми, не смотря ни на что. Лучики здорового феминизма в этой книге хорошо просматриваются, так как автор упорно принимает сторону женщины и защищает её.
Парадокс второй: психологические особенности героинь
Психологизм – автор уверенно владеет им через портрет, мысли, речь, поведение, описание одежды, показывая психологическое состояние героев. Например, в «Гране» – через устремления героини: «Пока Граня решала задачи, Злата пыталась лущить кукурузу, но тут же бросала это скучное дело». Или: «И хотя в школе не больно строжили с чтением книжек, она пыталась даже урывками читать». Автор демонстрирует упорство Грани в достижении цели – трудом и образованием преодолеть бедность. А в душе Нилы («Марсиане»), когда она поняла, что будет писателем, «завывала тоска отравленного навсегда человека». Ещё пример психологизма через подтекст, когда читатель сам чувствует авторскую мысль: «Вчера Нила потеряла Митю навсегда. Нет-нет, он не умер. Он на фото такой великолепный…» Имеется в виду, что он покинул её навсегда. Или в рассказе «Драма на улице Гобеленов», когда приходит письмо с фотографией, где «сквозь пшеничные волосы смеялись глаза Дружаны, перечёркнутые тонкой косичкой в бусинах», якобы неизвестно откуда, то читатель догадывается, что с конечной станции жёлтого автобуса, где остался навсегда влюблённый Фёдор. Или в рассказе «Лисёнок в сквозном лесу», когда Нариман, социальный педагог, читавший стихи про лисёнка и обучавший письму малограмотную девушку-токаря четвёртого разряда Нарине (пока она была на больничном в общежитии), уезжает на другую работу, и она ему пишет, а он не отвечает три года. Автор заканчивает рассказ цитатой стихотворения поэта Жигулина: «И давно уж мне не нужна ни сама ты, ни образ твой…» – так бы мог ответить сам Нариман. Также читатель без труда считает сравнение Нарине со зверьком, которого приручили, в частности, с лисёнком.
В цикле рассказов «И другие» особо хочется выделить «Чай с коньяком», потому что сюжет его насыщен и драматичен, а ещё потому, что героине этого рассказа, Алле Вадимовне, автором был выдан самый шикарный гардероб. Она «была страстной любительницей тряпок, умела пошиковать… темно-синий бархат с голой спиной или строгий костюм из серебряной парчи, который при малейшем движении вспыхивал и переливался звёздами…» Это подчёркивает женственность её натуры, склонность к изяществу, желание показать свою внутреннюю красоту через внешние атрибуты. Но ей же достался и самый тяжёлый отрез женского горя. Её самообладание, выдержка и доброта поражают: увидев разгром на даче после пьянки сына, она лишь называет его «поросёнком» и сама всё убирает несколько часов, не устраивая скандалов. Или в эпизоде, где невестка Люда бросает её сына, а на работе приходится видеться с ней каждый день: Алла Вадимовна год терпит, не решается подойти и заговорить, чтобы не быть нетактичной, хотя сердце за сына болит.
Заострение какой-либо одной психологической черты также используется автором. Трудолюбие маленькой, но ответственной девочки Грани превращается в самоотверженность, а выносливость её доходит до мазохизма. После уроков она шла не отдыхать а, по приказу отца, работать на огороде, а потом и на путях. «Она била по камням, чтоб раскрошить спекшийся от мазута и грязи пласт… Очищенные камни надо было засыпать обратно… Падала без сознания уже дома, ничего не видела. Она могла бы спать с трёх и до утра, но вставала по хозяйству». Главная книга жизни Грани – «Овод», ей близки Жюль Верн и Гоголь «про черевички» – книги о преодолении, о возможности достичь недостижимого. Честность и правдивость её с годами переросли в обострённое чувство справедливости. С каким удовольствием она ела заработанный своим трудом кусок хлеба, или отдавала все свои деньги подруге, у которой украли чемодан, или перестала общаться с женихом, потому что он сказал, что стыдится её в институте. А Злата? Красивая, с белыми бантами, голубоглазая девочка-кокетка, с детства жаждущая мужского внимания. Так или иначе она его добивается, превратившись в модную развязную девицу, особо не страдая от своей женской доли. Автор подчеркнул это её жаргоном: «Но для меня всё кончилось плохо. Я опять залетела и настрочила ксиву начальству… Тут уж меня стали драть все кому не лень. Ты помнишь, я была ничего…».
В повести «Нила» у главной героини, сначала вовсе не пишущей, а ищущей себя в этом мире, затем ставшей писателем и руководителем литературной студии, можно обнаружить заострение таких черт, как гуманность и чуткость, которые вкупе с её заниженной самооценкой довели «пыльную училку» в «балахонистых трикотинах» до болезни.
В рассказе «Мимо Дафны», когда у Нилы обнаружилась миома, автор даёт такое описание: «Почти сорокалетняя деточка Нила сидела, втянув голову в плечи, и дрожала». Тогда Дафна, врач-акушер, с которой Нила подружилась и не переставала ею восхищаться всю свою жизнь, сказала ей в больнице: «Не любишь ты себя, всех ненавидишь, обижаешься, вот они, опухоли, и растут…» Опухоли растут, потому что Нила, забыв о себе, заботится о других людях, втолковывает ученикам азбучные истины, за которые никто не благодарит, по-матерински дарит людям добро. Нужно отметить, что Дафна – сильная, умная, уверенная в себе и нацеленная на результат, является примером для Нилы. Она победитель по жизни, а Нила жертва, которая себя таковой не считает. Её трудности в принятии себя, в несхожести с другими, «толстокожими», людьми, которым легче жить, чем страдающему, проницательному, порой жалкому, искреннему и невероятно трудолюбивому человеку, вызывают читательское сочувствие, и желание заступиться за неё.
Скудная гастрономия повседневности: кухонные дела – неотъемлемая часть женской жизни многих героинь книги. Они становятся матерями, рожают и кормят детей. Но при наличии портретов, яркого набора душевных переживаний, разноплоскостных разговоров, описаний духовных поисков, бытовых деталей, квартир, кухонь, цветов на подоконнике, гардеробов, мебели и бытовой техники, природных явлений – в книге так мало собственно еды! Автор лишь изредка подкармливает героинь и персонажей: «Зато когда выдали Гране карточку на хлеб, она так наелась!». Хлеб – награда за труд, так как в то время у Грани изысков в пище просто быть не могло. В других рассказах они могли бы быть, но автор лишь обильно поит героинь чаем. Чашек и кружек, выпитых ими по разным поводам, в горе и тоске, – не сосчитать: «Дафна не торопясь поставила чайник, достала шоколадку… После кружки чая Нила уже могла говорить» («Мимо Дафны»). Или: «Она шла домой и морщилась от слёз… Дома наварила еды – борща, каши с грибами. Испекла блинов. После долго ела перед телевизором» («Немного зла»). Или: «Чай, который пила Нила до интервью, давно стал холодным. Сыр на хлебе, наоборот, подтаял, покрылся капельками, подсох и скрутился» («Ночное интервью»). Или: «Трехслойный чай и вермишель с сардельками дали ей возможность успокоиться и побыть матерью» («Стихи с перегаром»). Алла Вадимовна, как и её мать, – любительница чая, который используется в качестве успокоительного: «Слава Богу, свет ещё не был отключен, и можно было согреть чайник на плите. Дико устав, она немного успокоилась и, выпив три кружки чая, все-таки пошла на электричку» («Чай с коньяком»). Заметно, что идея гедонизма чужда автору: сытостью не страдает никто в этой книге. Видимо, умышленно подчёркивается второстепенность пищи, когда «кулебяки с капустой» призваны утолять голод, но не должны отвлекать от роста души в упоительном мире переживаний. Лишь в рассказе «Дуновение Рождества» у героя, лишившегося любимой жены, не только самые светлые воспоминания о ней, но и самый обильный стол: «Кроме горбуши взял в кулинарии свёклу, курагу, орехи, вермишельные гнёзда, окорок тамбовский охотничий, томатный сок для себя, персиковый для неё, ей нельзя острое и копчёное… Ему можно, например, копчёного угря. А надо ещё курочку для бульона, бульон полезен и большим, и маленьким…» Автор как бы возмещает герою потерю близкого человека наслаждением от пищи.
Парадокс третий: счастье без хеппи-энда
Финал повести «Граня» огорчает читательские ожидания реализмом. Казалось бы, пусть Граня стала бы великим агрономом или была бы безумно счастлива в своей собственной семье с Егором. Но нет. Встреча с вернувшимся из тюрьмы отцом скомкана: Граню переполняли чувства и надежды, а у него другая семья. Прожив в гостях у матери с маленькой дочкой почти два месяца, Граня решила вернуться к мужу, по которому не так уж сильно и скучала – просто идти ей больше некуда: «Долго так стояла она у вокзального фонаря, изнывая от неизвестности… А она, Граня, поедет обратно к Егору, туда, где её второй дом. Она всё выдержит». Потому что счастлива она сама по себе, всё умеет, состоялась как личность, хотя и не стала великой лётчицей, как мечтала в детстве.
Первый рассказ из цикла «Нила», «Сынуля», сбивает с толку. Автор показывает нам Нилу глазами озадаченной Ольги, носительницы созидательной любви к незрелому неземному Санни. Нила Волина предстаёт перед нами неприятной шефиней литературного кружка, в котором занимается впоследствии Гурик, сын Ольги, и Санни, идеалистически защищающий её. И лишь в следующих рассказах проявляются положительные черты этой «отравленной литературой» женщины, неряшливой, предпочитающей в одежде свободный стиль струящегося трикотажа. Рассказ о её любви, мытарствах и «обивании порогов» в поисках помещений, авторов для фестивалей, студийцев для ЛИТО, героизм и выдержка, с которой она ведёт свои занятия, вдохновляя и направляя юных графоманов, – всё это восхищает. Не все её усилия напрасны, есть у неё яркая ученица Ада, конфронтация с которой до изнеможения изводит душу знающей и опытной Нилы. И вдруг намечается перемирие, Ада приглашает: «Пойдёмте ко мне есть пирог? Сама испекла…». А Нила отказывается: «Она шла домой и представляла, как они ставят чайник, режут этот пирог, как гремят чашки в раковине…». И хоть потом, спустя годы, их отношения налаживаются, а повесть заканчивается печальными размышлениями Нилы о своих проблемах. Ведь теперь ей придётся заняться собственной жизнью, и когда она возьмётся за неё всерьёз, всё наладится.