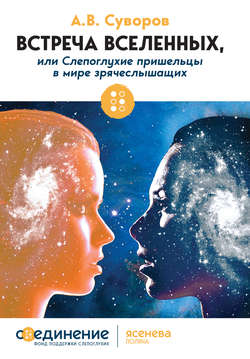Читать книгу Встреча Вселенных, или Слепоглухие пришельцы в мире зрячеслышащих - А. В. Суворов - Страница 10
Часть первая
Основной вопрос
1.5. Вчувствоваться, вдуматься…
ОглавлениеКак мы уже отмечали, восприятие мира тесно взаимосвязано и с особенностями коммуникации. Порассуждать на тему разницы в общении слепоглухих и зрячеслышащих меня натолкнуло обсуждение моей кандидатской диссертации на заседании двух лабораторий Психологического института Российской академии образования. Академик А. А. Бодалев и доктор психологических наук, профессор В. Э. Чудновский в своих выступлениях предложили мне попробовать ответить, хотя бы очень коротко, на интереснейшие вопросы, касавшиеся главным образом конкретных механизмов общения слепоглухого (то есть меня) с окружающими.
Доктор психологических наук Ю. Б. Некрасова, ведущий научный сотрудник в лаборатории А. А. Бодалева, рассказывала мне о своей работе как психотерапевта, и я понял (может быть, не совсем верно), что эта работа сводится к восстановлению нарушенных механизмов общения. Однажды, анализируя вслух с помощью ее наводящих вопросов мои собственные проблемы, я сформулировал тезис, что у меня (как и очень многих других слепоглухих, – да, вероятно, и не только слепоглухих) во многих случаях механизмы общения не столько нарушены, сколько просто не налажены, так и не сформировались за всю жизнь.
Дело не в том, что мы когда-то умели нормально общаться, но однажды почему-то «разучились», а в том, что не умели никогда или умели более-менее в ограниченной сфере, за пределами которой нормальные механизмы так и не сформировались и либо действует ненормальный, патологический механизм, либо никакой не действует, мы просто в полной растерянности. Как по другому поводу сказал мне А. В. Апраушев: «Если бы я знал, я бы сделал». Тут, правда, сразу же встает гносеологическая – теоретико-познавательная – проблема: что значит знать? Если это значит всего лишь «иметь информацию», то очевидно, что одной информации для делания недостаточно, хотя, с другой стороны, и без информации тоже ничего не поделаешь, не обойтись. Если же «знать» значит «уметь», «мочь», то воистину: если бы все мы знали, мы бы сделали.
В огромном большинстве случаев при загвоздке в общении я просто не знаю, как с хорошей миной выйти (выпутаться) из явно плохой игры, а поэтому нагромождаю глупости, о которых потом очень горько и очень долго сожалею, за которые сам себя казню. Я из тех, кому стыд глаза выедает – ест буквально всю оставшуюся жизнь. И очень многие связи с людьми, которых любил, я потерял, так и не решившись возобновить встречи после того, как перед ними провинился.
В других случаях сохранить – или восстановить – хоть сколько-нибудь нормальные отношения удается только благодаря безоговорочному признанию своей глупости, неправоты, прямой вины. Благодаря своей маме я в какой-то мере умею не только «не видеть умом», но и искренне не чувствовать унижения в признании своей вины, если уж действительно виноват. Не всегда, но часто это обезоруживает праведно разгневанного друга, и конфликт гасится. Настаивать на своем лишь потому, что оно свое, неважно, правильное или нет, либо «защищаться» по принципу «сам дурак», «сам не лучше, а то и хуже», оправдывая собственную ошибку тем, что и другие не святые, а то и пытаясь взвалить свою вину на этих других, свалить с больной головы на здоровую, – такое поведение, конечно, верх неразумия, и в результате рискуешь либо замкнуться в узкой, тем более узкой, чем ты нетерпимее, секте «единомышленников», либо вообще оказаться в одиночестве.
Впрочем, замыкаться в самоедстве, в самобичевании, в самоосуждении не лучше. Это моральное самоубийство, и я к этому очень склонен. Склонен, но, к счастью, из-за фатальной открытости характера с огромным большинством людей это у меня не получается. Ведь следствием замыкания в своих бедах тоже может быть полное одиночество, а то и самоубийство физическое. Будучи слепоглухим, я самому себе сделать скидку на слепоглухоту не могу. Это не значит, что я вообще «фактор слепоглухоты» игнорирую – наоборот, тщательно учитываю, но с целью не самооправдания, а как можно более точного самоисследования.
Вообще мне тогда же пришло в голову, что я – как бы разведчик науки на планете слепоглухоты, и в этом качестве мне было бы очень хорошо иметь список вопросов, составленный учеными самых разных научных интересов. Это очень облегчило бы мою исследовательскую работу.
При этом я не испытываю ни малейших этических судорог по случаю моей «разведывательной» роли. Все мы, говоря словами А. М. Горького об О. И. Скороходовой, «существа для эксперимента» в силу уникальности, неповторимости каждого. Все мы вынуждены отвечать на задаваемые жизнью вопросы. Все мы вынуждены поэтому, более или менее сознательно, заниматься самоисследованием, чтобы наша жизнь хоть в какой-то мере зависела от наших усилий, – чтобы хоть самим, что называется, сдуру не нагромождать проблем сверх совершенно неизбежных. И если я, вполне добровольно и сознательно, готов предоставить в распоряжение науки мой личный опыт, – я не «подопытный кролик», а вполне сознательный участник эксперимента, по не зависящим ни от меня, ни от науки причинам поставленного надо мной жизнью. И это, может быть, единственная достойная человека, единственно нравственная позиция – позиция участия в ослаблении, если не снятии, социальных последствий кошмарного «эксперимента», имя которому – слепоглухота.
На первом же обсуждении автореферата моей кандидатской диссертации А. А. Бодалев и предложил мне целый список вопросов, «танцуя», разумеется, от собственных исследований в области психологии общения зрячеслышащих (формулировки от лица А. А. Бодалева):
«1. Отношения могут осложняться субъективной догадкой (если это связь человека с человеком): видя, воспринимая другого человека, наделение его теми или иными чертами личности.
2. Затем обязательно врывается эмоциональный компонент, у нас возникает чувство симпатии или антипатии, протест, восхищение и т. д. Отношение всегда несет поведенческий компонент…
3. Показать своеобразие отражения окружающих, не видя других людей, эмоциональных откликов на них, на общение с ними (откликов), которые позволили бы сделать эти контакты с другими людьми максимально благоприятными, результативными, творческими…
4. Есть проблема „Эффект ореола”… У меня невольно возникает некий ореольчик, за которым стоит весь мой предшествующий опыт общения… Когда кто-то меня обижает, кто-то не откликается на мои притязания, я, соответственно, награждаю этого человека тоже определенным ореольчиком, с ним соответственно себя веду. Мне кажется, что у слепоглухих этот эффект ореола своеобразно должен возникать.
5. Затем… децентрация, то есть я ставлю себя на место другого и вижу себя глазами другого; мне кажется, что у слепоглухих эта проблема децентрации… очень специфична…
6. Фрейд… очень много говорит о феномене проецирования, то есть вкладывания себя в другого, когда мы собственные мысли, настроения приписываем этому человеку, с которым сейчас общаемся, и, как другие исследователи говорят, что в зависимости от типа личности этот феномен проявляется у одних сильнее, у других слабее. В условиях дефицита информации он проявляется сильнее.
7. Я… сталкивался с такими перлами: женщина, которую когда-то обидел мужчина, говорит: „Все мужчины таковы”…Незаметно для себя в процессе общения классифицируем людей: преподавателей, товарищей, друзей, начальников…У вас (то есть у меня – слепоглухого), возможно, присутствует классификация людей на тех, кто вам помогает, и тех, кто не помогает.
8. Феномен идентификации – это социально-психологический феномен, заключающийся в том, что, сталкиваясь с человеком, берем его в роли образца, примера. Может быть, когда мы говорим об общении слепоглухонемого, этот феномен… тоже очень своеобразно обрабатывается.
9. Феномен рефлексии… формула Чернышевского: „Кто не познал человека в самом себе, не может рассчитывать на глубокое знание других людей”.
10. В. Э. Чудновский (и по существу другие участники обсуждения) огорчался тем, что „пока он сам” [то есть я] „как субъект выступает, а те субъекты, с которыми взаимодействует, их нет” [не видно в моей работе]».
Спасибо за щедрость. Только по этому списку можно написать многотомную книгу. Хватило бы жизни… Попробую предельно кратко пройтись по получившимся пунктам.
О субъективной догадке. Я мог бы просто констатировать, что этот психологический механизм (как и другие) в частности у меня присутствует; без него всякое общение было бы парализовано, и особенно при слепоглухоте, лишающей возможности ориентироваться на выражение глаз и лица, на интонации, просто наблюдать издали действия партнера по общению, но нужны примеры.
По поводу термина «партнер общения». Понимаю, возникают ассоциации с «сексуальным партнером» или «партнером по шахматам». Но как сказать?.. «Собеседник» – узко, чисто разговорно, а ведь общение к разговорам никак не сводится. «Партнер» – более общий термин, и, несмотря на нежелательные ассоциации, более подходящего не знаю. Разве что «субъект общения»? Нет, уж больно наукообразно, да вроде и не совсем про то по смыслу: в «субъекте» на первом плане активность, а не взаимность.
Надеюсь, А. А. Бодалев не посетует, если для примера я возьму его же собственную речь по поводу моих скорбных диссертационных трудов. Ее мне перевели дактильно во время самого выступления; затем дословно дактильно же перевели с фонограммы; наконец, дали сокращенный текст. При переводе с фонограммы я обратил внимание, что ученый сравнивает меня с «ежиком», у которого что-то «вызывает подъем иголочек». Я сразу почувствовал себя мальчиком, которому ласково взъерошили волосы, и в ответ на эту ласку в моей душе поднялась волна тепла к академику.
Читатель, конечно, обратил внимание на многочисленные отточия, которыми я отметил пропуски в тексте А. А. Бодалева при составлении списка вопросов ко мне. В большинстве случаев в пропущенных местах он извиняется за свою якобы некомпетентность, за то, что он «неумеха» и «пустышка» во всем касающемся слепоглухих. Очень настойчиво, многократно извиняется. Можно подумать, что у академика – комплекс неполноценности. Но нет, я чувствую в этих извинениях улыбку, усмешку, тонкую иронию, а также предупредительное подчеркивание того обстоятельства, что Алексей Александрович ни на чем не настаивает, всего лишь «танцует» от своей, хорошо ему знакомой «печки». Мне, с одной стороны, очень доброжелательно помогают, а с другой стороны – со мной как бы играют, чуть-чуть «подначивают». Да, в прямом, а не через переводчика, общении с А. А. Бодалевым могло бы быть захватывающе интересно, непринужденно и весело.
Алексей Александрович не раз предупреждает, что, может быть, начнет говорить неприемлемые для меня вещи. По этому предупреждению я «субъективно догадываюсь», что он, очевидно, знает меня куда лучше, чем я его, прекрасно осведомлен о прежней моей задиристости, над которой посмеивался и Э. В. Ильенков, называвший меня «молодым петушком». Хотя для меня было и есть немало неприемлемого в окружающей жизни, могу заверить: все сказанное Бодалевым у меня вызвало только горячую благодарность и острую заинтересованность.
Вообще видно, как тщательно академик старается нейтрализовать фактор самолюбия, из-за которого мы сплошь да рядом принимаем попытку помочь за чтение морали. «Не спеши защищаться, – настойчиво просит он. – Дай себе труд выслушать и вдуматься». Да. Что-что, а вслушиваться и вдумываться нам часто «недосуг». Я первый грешен.
«Субъективая догадка» А. А. Бодалева – то же самое, что и «субъективная вероятность» А. И. Мещерякова. И общение – такой же объект восприятия, как и любой другой. Без субъективной догадки и децентрации общение вряд ли было бы адекватным.
Предыдущее служит хорошей иллюстрацией и эмоционального компонента. Волна теплоты в ответ на «ежика», то есть в ответ на шутливую ласку. Улыбка в ответ на извинения за «некомпетентность». Горячая благодарность и острая заинтересованность в ответ на все. А ведь это опосредствованное общение, через переводчика, через текст. В прямом же общении появляется реакция непосредственно на эмоции партнера, на состояние его рук. В первые же секунды, ну, в минуты, можно определить общий интеллектуальный уровень собеседника (по тому, как быстро он осваивается с тем фактом, что общается со слепоглухим, что надо не орать в ухо и не хвататься за карандаш и бумагу, а чертить пальцами «печатные» буквы во всю правую ладонь или же осваивать специальный алфавит). Можно более-менее точно определить, есть ли у человека дача, огород (бывают, как я их называю, «земляные» руки), занимается ли он видами спорта, связанными с натиранием мозолей, или же сложным ювелирным трудом по ремонту механизмов – от часов до компьютеров…
Руки самого Алексея Александровича – сухие, скорее прохладные, чем теплые. Спокойные, и я бы даже сказал – улыбчивые. В марте 1996 года я привел брата устраиваться на работу в качестве моего лаборанта в Психологический институт. Таяли сугробы, и между журфаком МГУ, юрфаком МГУ и Психологическим институтом РАО разлилась громадная лужа. Мы растерялись и занервничали, тем более что я не мог объяснить брату, которое из трех зданий нам нужно, и тащил его прямо в лужу, куда он категорически не хотел. Тут к нашей паникующей парочке подошел академик. Он взял меня за руку и провел ко входу в институт. Брат – за нами. В тот момент рука Бодалева даже не улыбалась – тихонько смеялась, не могу сказать иначе – светилась… Успокаивала нас, детишек.
Говоря о своеобразии эмоциональных откликов слепоглухого, вероятно, имеются в виду те, что облегчают контакт с ним самим. Если я правильно понял смысл вопроса, то существуют достаточно общеупотребительные, как бы я их назвал, «двигательные междометия»: разнообразные поощряющие, ободряющие, торопящие, успокаивающие поглаживания собеседника по руке. Рукой можно проделывать все то же, что и головой: согласно кивать, отрицательно покачивать.
Думаю, слепоглухому в общении в плане эмоциональных откликов нужно быть особо сдержанным именно в силу дефицита информации. Не пассивным, а сдержанным. Не спешить делать выводы, не спешить реагировать, быть подотошнее, повъедливее, «выжимать» по возможности «досуха» всю доступную информацию, чтобы точнее сориентироваться, и в то же время как-то избежать «занудности».
Само собой, что здесь главный «орган чувств» тот же, что и у всех людей, а именно уровень общей культуры. Интеллектуальной, эстетической, нравственной. Уровень интеллигентности. Уровень воспитанности. Чтобы со слепоглухим хотелось общаться, а не просто милосердно «возиться», у него этот уровень поневоле должен быть несколько выше, чем у зрячеслышащих, потому, что с ним, слепоглухим, общаться технически труднее, и у людей должен быть дополнительный стимул для преодоления этих трудностей.
Столь высоким, жестким требованиям мало кто удовлетворяет, да не все и хотят удовлетворять; среди слепоглухих, так же, как и среди зрячеслышащих, распространена аргументация типа: «Почему я должен к кому-то подлаживаться, а ко мне никто?» Стремление к взаимному равноправию, прямое требование взаимного равноправия в условиях слепоглухоты особо жесткое. Обидчивость из-за недостатка взаимного равноправия чрезвычайно повышенная. Очень болезненно переживается и отвергается тот факт, что зрячеслышащие без нас обойдутся, а мы без них – нет. Мы бы хотели, мы настаиваем, чтобы без нас тоже нельзя было обойтись. Но тут можно «качать права», а можно работать над собой, над тем, чтобы хоть чем-то стать интересным, хоть в чем-то нужным. Здесь источник всех на свете комплексов. Здесь повышенный риск погибнуть и личностно: замкнуться в предельно тесном кругу общения, спрятаться за спину хорошо знакомых людей, самым откровенным образом «подлизываться», лишь бы чем бы то ни было не вызвать недовольства, смирно просиживать в полном одиночестве сколько угодно времени, дожидаясь, пока о твоем существовании вспомнят; можно погибнуть и физически: заболеть и умереть от недостатка внимания, покончить с собой.
Мне, чрезвычайно (даже по меркам зрячеслышащих) широко общающемуся, спокойно доверяющемуся незнакомым людям в парке, на транспорте, в учреждениях всякого рода, – мне и то очень часто не хочется жить. Хочется по меньшей мере спрятаться, где-то отсидеться, пока пройдет стыд за себя или обида на окружающих. Это по меньшей мере. Ибо я твердо решил, что, пока жива мама – единственный человек, который моей смерти бесспорно не пережил бы, – я права на самоубийство не имею хотя бы потому, что это было бы одновременно и убийство.
Оказалось, что у меня нет права на самовольный уход и после смерти мамы. Уж очень за последующие десятилетия оказался я неожиданно востребованным, да и семейное благополучие, в конце концов, наладилось благодаря названому сыну, – все это не могло не убедить меня, что мне удалось стать нужным очень многим людям, мне есть ради кого и ради чего жить и после смерти мамы. Поэтому формула: «Пока есть мама, должен быть я», – изменилась так: «Пока есть я, есть и мама». То есть я должен закончить не только свою, но и ее жизнь. Преждевременным уходом я обессмыслил бы ее страдальческий жизненный путь. Мама такой черной неблагодарности уж никак не заслужила. А названый сын самим своим существованием, не говоря уж о заботе, вообще снял с повестки дня вопрос о самовольном уходе…
Обжитое социальное пространство – исключительно емкий термин. Это пространство (и время), в котором я чувствую себя хоть сколько-нибудь уверенно. Это и хорошо изученная местность, и та сфера общения, где я – центр или один из центров эмоциональной и деловой заинтересованности. Я могу поехать в детский лагерь, в котором с самого начала нет ни одного знакомого человека, и тем не менее весь этот лагерь будет в пределах моего обжитого социального пространства. Для того ведь и еду, чтобы знакомиться, привлекать к себе как можно более широкое внимание и детей, и взрослых. Первоначальные трудности общения, что называется, входят в условия задачи.
Мне интересно с пишущей братией; с коллегами в области теоретической и практической психологии; вообще с духовно богатыми людьми, с кем есть о чем поговорить, есть в чем посотрудничать. Это все мое обжитое социальное пространство. Понятно, что оно постоянно расширяется, в него входят новые и новые люди.
В обжитое социальное пространство и время входит и чтение всей доступной литературы (в том числе работ Маркса и Ильенкова), и музыка, да не какая-нибудь, а инструментальная классика. Никакой слуховой аппарат не помогает мне понять устную речь, но музыку слушаю с удовольствием, именно классическую – потому, что в другой музыке, в массовой, тарахтящей и чихающей, как испорченный мотоцикл, мне просто «мелко»: в музыке надо растворяться, расплываться, а тут, наоборот, хочется удирать и прятаться. Как-то я слушал фортепианный концерт одного эстрадного композитора, он сам играл, и у меня было четкое ощущение какой-то нудной, мелкой, назойливой агрессивности, будто на меня бегут, вот-вот начнут избивать маленькие злые существа, гномы, что ли…
В общем, обжитое социальное пространство/время может сколько угодно расширяться, но уже на готовой основе, – на то оно и «обжитое». За его пределами я чувствую себя поистине инвалидом – существом, за которым «ухаживают», но которому отказывают в существовании души. В такой ситуации мы очень часто оказываемся в собственных семьях; нас кормят, но и только; даже регулярно бывать на воздухе – уже роскошь. Огромное большинство слепоглухих, да не только слепоглухих, вообще лишено обжитого социального пространства/времени. У меня-то оно, как, вероятно, уже убедился читатель, огромно. Дай бог всякому зрячеслышащему такое же. А вот один мой знакомый пятилетний мальчик не хотел ехать к родителям от бабушки: «Бабушка со мной играет, а вы нет!» Его социально обжитое пространство – у бабушки, с бабушкой, а дома он – не дома. Ребенок зрячеслышащий, вполне здоровый… Но дома оказался на положении инвалида. Социального.
Об эффекте ореола. Если есть хоть какое-то остаточное зрение, ореол зрительный. Мой друг Ирина Поволоцкая, слепоглухая с остаточным зрением и слухом, видит людей в цвете, причем сразу, при первом же знакомстве. У меня – светоощущение: отличаю темное от светлого, а цвета, сколько себя помню, никогда не различал. Соответственно люди мною воспринимаются светлыми и темными, причем темный – не обязательно плохой, а светлый – не обязательно хороший.
Например, Эвальд Васильевич Ильенков казался всегда темным, подавленным, грустным, усталым, прокуренным. Даже не грустным, а печальным: грусть – мимолетное состояние, а печаль – постоянное. В то же время тексты Ильенкова всегда воспринимались светлыми, даже светящимися.
Очень светлые – светящиеся – тексты у Владимира Леви, с которым я лично встречался однажды, случайно и мимоходом, а заочно, по текстам, знаю его со студенческой скамьи. При личной встрече он мне показался хронически усталым, переутомленным, а потому ни темным, ни светлым, посерединке где-то.
Кстати, А. А. Бодалев спросил вдогонку к остальному и о первом впечатлении при знакомстве, а также о восприятии незнакомых. Как-то я заблудился в лесопарке, потерял нужный мне поворот. Стал просить помощи у прохожих. Сначала остановил какую-то тетку, которая долго пялилась в дощечку, где сказано, что я слепоглухой и со мной можно разговаривать с помощью параллельного – рельефно-точечного и зрячего – алфавита. Руки у тетки были грубые, широкие, короткопалые, с явно плохо гнущимися пальцами. От них веяло равнодушием, глуходушием и какой-то бараньей или коровьей тупостью. Она так и не осилила ни инструкции на алфавитной дощечке, ни моей, многократно повторенной, устной просьбы показать поворот к лесному пруду. По рукам я предположил, что их обладательница работает явно продавщицей в одном из тех магазинов, где в перестройку на прилавке не было ничего, а гнилую вонь на улице слышно. Что сами не разворовали, то сгноили. Кончилось тем, что она так и пошла своей дорогой, чуть не унеся и алфавитную дощечку в качестве сувенира. Рядом с ней я заметил еще два очень темных силуэта, оказавшихся ничуть не понятливее, но этих за руки не держал.
Потом я остановил двоих. Имел дело с одним; второго (или вторую) видел темным вертикальным пятном (так я вообще видел днем людей, одетых в темное, но в пожилом возрасте перестал замечать окружающих вообще, если не берут за руку). У этого человека руки были очень уютные, сухие, теплые, какие-то не мягкие, не жесткие, в складках. Человек был явно образованный, творческий: минуты не прошло, как он разобрался с моей алфавиткой, стал писать у меня на ладони, проводил до нужного поворота, готов был к моим услугам и дальше, но я поблагодарил и сказал, что теперь и сам разберусь. Отходя от них по указанной тропинке, я чувствовал, что они стоят и провожают – берегут – меня глазами. Теплое чувство к этому человеку и его спутнику (скорее всего, все-таки спутнице) у меня живо до сих пор, хотя прошло уже много лет. Жалко, постеснялся познакомиться по-настоящему, – может быть, дружили бы сейчас…
На этом месте (в первоначальном варианте данная работа написана весной 1994 года) меня отвлекла мама: сунула в руки две морковки. Мамин ореол – даже не нимб, а сплошное сияние, с головы до ног. Также светятся обычно ребятишки. Маму я и называл своим самым маленьким и самым любимым ребенком. Любое ее проявление умиляло меня так, что я смеялся от нежности (точно такая же реакция у взрослых на детей). Когда нам приходилось разлучаться, я все время проверял, как там мама, – светится или нет. Если вдруг ее образ темнел, я посылал телеграмму с просьбой срочно сообщить, все ли в порядке.
Однажды в лагере Детского ордена милосердия я вдруг испугался за маму так, что меня, лишь бы успокоить, тут же на ночь глядя сводили на центральный телеграф Евпатории, и мы дали маме телеграмму с указанием точного адреса (в Москве я не удосужился это сделать, отсюда и паника: вдруг что случилось, а за отсутствием адреса мне сообщить не могут). Дети были удивлены: они думали, что это только их привилегия – так скучать без мамы…
Удивительная трансформация произошла с ореолом одного моего знакомого. Пока знакомый «выбивался в люди», обрастал деловыми связями, это был вполне законченно круглый светящийся живой столбик. Когда же знакомый вырвался аж в правительственные сферы, за спиной у него заклубилось что-то вроде черного облака или густейшего черного дыма, а сам он превратился из столбика в угол этого расширяющегося, клубящегося зловещего «нечто».
Похожая история с моим собственным ореолом: чем больше людей со мной связано, тем больше и ярче за моей спиной марево или заря. А раньше я был круглым столбиком, как и положено законченному дураку. Но если за моей спиной разгорается «заря», то за спиной упомянутого знакомого, увы, сгущается мрак. У меня с этим знакомым глухой затяжной конфликт…
А вот Юлия Борисовна Некрасова однажды представилась мне очень усталой и в целом, так сказать, пасмурной, но руки на этом пасмурном фоне горели, полыхали, как два костра в поздних вечерних сумерках. Почти ночных. Когда она одной рукой брала меня за пальцы, а другую руку клала мне на плечо, у меня проходила и физическая, и душевная боль, налаживалось какое-то умиротворенное настроение. Ее руки представлялись мне как два костра, две луны, два светящихся окошка в ночи, два маяка… Или как два солнышка. Именно солнышка, а не солнца. Грели, но не жгли.
Это понятно: у Юлии Борисовны – руки психотерапевта. А вот чей свет вылечил меня как-то зимней ночью от головной боли? Я вернулся с работы очень усталым, поужинал и сразу лег спать. Голова разболелась еще на работе. Я лежал с закрытыми глазами, и вдруг там, где, как объясняли знакомые экстрасенсы, находится «третий глаз», появилось отчетливое свечение, потом сияние, а потом оно разгорелось до почти слепящего, как от включенных в полную силу автомобильных фар, столба света. Этот свет уткнулся мне в «третий глаз», залил правый глаз, – и боль, пульсировавшая в висках, стала постепенно проходить. Я слабо поворачивал голову на подушке так, чтобы столб света упирался точно в «третий глаз» – над переносицей. По мере того как уходила боль, мерк и этот свет. Утром я проснулся немного раньше, чем нужно было по будильнику, который будил сначала маму, а она потом меня. Головной боли не было, я чувствовал себя на редкость свежим, как давно уже не случалось…
Децентрация. Слепоглухому это особенно трудно – и особенно нужно. Без постоянного «влезания в шкуру» окружающих сколько-нибудь полноценное общение невозможно. Здесь – тот сказочный перекресток, где, в какую сторону ни пойдешь – определишь свою судьбу, свой образ жизни.
Еще в студенческие годы я считал, что никакая слепоглухота не дает права мнить себя самым несчастным в мире. Какой-нибудь инвалид-колясочник при встрече со слепоглухим небось думает: пусть я неподвижен, зато слышу и вижу. А я, когда познакомился с колясочниками в лагерях Детского ордена милосердия, уж точно сравнивал – и решил, что мне лучше: могу ходить, могу действовать своими руками. Слепота лишила меня возможности созерцать физически, зато вынудила особо точно, расчетливо действовать, и тем самым видеть «внутренним взором», духовно.
В студенческие годы я сравнивал себя не с колясочниками, а со здоровыми людьми, – хотя бы с собственным секретарем Геннадием Ерохиным, – и часто находил, что моему помощнику, студенту-вечернику, приходится нередко солонее моего. Вообще я никогда не любил меряться, «кто несчастнее».
Тут нет противоречия с тем фактом, что в жизни и творчестве я страстно подчеркиваю трудности существования при слепоглухоте. Я не считаю себя самым несчастным, но, стремясь по мере сил понять каждого встречного-поперечного «изнутри», я хотел бы, чтобы и меня понимали изнутри, не судили обо мне по себе, не требовали непосильного, не навязывали несвойственного. А так как столь доброжелательное взаимопонимание между людьми – вообще едва ли не самый большой дефицит, я вынужден объяснять свою ситуацию, рассказывать о ней, помогать (хотя бы своему вероятному читателю) вообразить ее в какой бы то ни было минимальной степени.
В общем, я – за взаимопонимание и взаимную ответственность. А если получается не взаимно? Если я пытаюсь понять, а меня не хотят? Если я ответственен, а со мной безответственны? Не раз бывало и наоборот: я сам отвечал на ответственность безответственностью, на желание понять нежеланием понимать. И потом очень об этом жалел – иногда непоправимо поздно.
Ну что ж, если не получается взаимной человечности, то человечнее всего защищаться. Человечность не должна быть беззащитной, бессильной, иначе она превратится в свою противоположность – в бесчеловечность. Вполне притом взаимную.
После смерти мамы я оказался вынужден по-разному отреагировать на две сложные ситуации, которые подробно анализировать здесь не хочу, но попробую кратко подытожить.
В одной у меня была возможность очень жестко продиктовать свою волю, немедленно пресекать попытки рецидивов безответственности или истеричности. Даже если я не совсем был прав, я понимал, что надо настоять на своем во что бы то ни стало, иначе потом будет не сладить. Потому что истеричность, с которой я столкнулся – прежде всего следствие инфантильности, способ (закрепившийся в детстве) паразитировать, криком, слезами, скандалом вынуждать к уступкам, хоть в чем, большом и малом. И уступить – значит подтвердить «эффективность» подобного способа устраиваться поудобнее за чужой счет, за счет, мягко говоря, «дискомфорта» близких. А тогда совместное существование станет попросту невыносимым и невозможным. Придется принимать слишком уж крайние решения: либо избавляться от истерика (а если это близкий родственник – попробуй избавиться), либо самому уходить из жизни (рановато, слишком много надо сделать, да и много чести истерику).
В другой ситуации пришлось просто порвать отношения. Ничего больше не оставалось. Моей слепоглухотой нагло пользовались, чтобы «незаметно» (а я-то все замечал) обворовывать меня. Я всегда точно знал, сколько у меня в кошельке денег, и недостачу замечал мгновенно. Вина семнадцатилетнего парня была очевидна, как было очевидно и то, что он от всего будет нагло отпираться. И я просто сказал ему, что больше никогда не пущу его в свою квартиру. Захлопнул дверь перед его носом, не пускаясь ни в какие объяснения, ни в чем не упрекая и не обвиняя. По поводу его нежелания где бы то ни было учиться и работать объяснялись раньше. Меньше чем за двое суток до своей смерти с ним по телефону обсуждала этот вопрос и моя мама. Я понял его мотивы слишком хорошо, чтобы питать какие-то иллюзии, пускаться в бесплодные пререкания.
Поведение людей, с которыми давно и близко знаком, могу, естественно, в какой-то мере прогнозировать. Тут есть определенный диапазон ожиданий. Более или менее точно известно, чего можно, а чего нельзя ждать от того или иного человека. Этим в решающей степени определяются и границы доверия к нему. Наибольшего доверия заслуживает тот, кто не разбрасывается обещаниями; если не уверен, что может сделать – не обещает, а если уверен в себе и обещает, то делает как можно быстро, не тянет резину, так что не нужно беспокоиться и стоять у него над душой. Будучи из-за слепоглухоты в определенной степени беспомощным, я, разумеется, больше тяготею к таким вот надежным людям, на чье плечо можно твердо рассчитывать. По возможности рад подставить и свое плечо.
Допустим, главное для меня, как, впрочем, и для каждого, – как-то решить мои проблемы; но из всех проблем самая главная – быть нужным, полезным. Смотря в чем, конечно, и смотря кому. В случае с тем семнадцатилетним парнем я готов был помочь ему в учебе, в трудоустройстве, но не в том, чтобы бездельничать и доставлять себе примитивные удовольствия за моей (и чьей бы то ни было) широкой спиной. Так что надежность в людях я ценю не только и не столько из-за моей относительной беспомощности, связанной со слепоглухотой, сколько потому, что сам больше всего на свете хочу быть надежной опорой для как можно большего числа людей – в честном решении их проблем.
Я тяжело переживаю, выхожу из себя, когда мне «морочат голову», и сам не намерен никого подвергать подобной психологической пытке. С ненадежными людьми можно в свое удовольствие пообщаться «за жизнь», но полагаться на них ни в чем нельзя; с ними можно разделить удовольствие, но не стоит делить проблемы. Их можно иметь в числе знакомых, но себе дороже – иметь в числе сотрудников. Имеется в виду, конечно, не сотрудник – штатный работник, а друг, то есть тот, с кем можно разделить трудности, со-трудн-ик в буквальном смысле слова.
Еще в студенческие годы я решил для себя, что ни один человек до конца не познаваем. Можно познавать, узнавать, но нельзя «знать как облупленного». Неожиданности возможны всегда и от кого угодно, включая себя самого. Мы можем сами себя радостно удивить, а можем и очень огорчить.
Не надо зарекаться, самонадеянно и фамильярно хлопать кого бы то ни было по плечу: я, мол, тебя знаю. Нет, я знаю, что никого не знаю, и наряду с диапазоном ожидаемого, повседневного, обычного надо всегда сохранять – из элементарной осторожности хотя бы – кто его знает насколько широкий диапазон неожиданностей. Диапазон необычного для данного человека поведения, того, что, может быть, в порядке вещей для других, но не для него. Необычного, а не ошибочного; непривычного, а не плохого; странного, а не глупого. Именно ради объективности давать по возможности субъективные характеристики: мало ли что ошибочно, плохо или глупо с моей точки зрения, кто я такой, чтобы выносить приговоры? Но: может быть, это и правильно, но в пределах моего опыта общения необычно; может быть, это и хорошо, но для меня непривычно; может быть, это и умно, но мне – непонятно, странно. Именно для меня, а не для кого-то другого, нет ничего страшнее самоуверенности; ибо именно я, а не кто-то другой, ослепну и оглохну к живому человеку вследствие настаивания на своей шкале ценностей, вследствие превращения этой шкалы в истину в последней инстанции, в абсолютный критерий для оценок; поэтому в моих интересах быть поосторожнее в приговорах, во всяком случае, всегда быть готовым на «самокассацию» этих приговоров.
Разумеется, все это верно для нормального общения с нормальными людьми, а не для таких экстремальных ситуаций, когда приходится защищаться. Нарвавшись на слишком уж неприятную, абсолютно неприемлемую для меня «неожиданность», я предпочитаю не иметь больше никаких «диапазонов» относительно данного субъекта, – ни диапазона ожиданий, ни диапазона неожиданностей. Иногда безопаснее быть в позиции: не знаю – и знать не хочу!
Проецирование противоположно децентрации. Перевожу на русский язык: судить о других по себе, мерить других на свой аршин. Думается, что проецирование зависит не только от дефицита информации, а в решающей степени – от дефицита культуры, включающей в себя и информацию, но к информации ни в коем случае не сводимой.
Я люблю зелень, люблю бывать в лесу, в парке. Но вблизи каких-нибудь дремучих зарослей меня охватывает странное, тревожное чувство. Оттуда веет неясной угрозой. В то же время меня тянет проверить, так ли страшен сидящий в зарослях черт, как его малюет мое воображение. И есть ли там вообще какие-то черти. Поэтому в детстве, обмирая от страха, я все же лез в кусты. В зрелом возрасте меня тянуло свернуть на тропинку, которую я с трудом нащупывал тростью, рискуя потерять, а значит, и заблудиться.
Вот это ощущение притягательной дремучести я проецирую на примитивных взрослых людей, глядящих на мир, ничего в нем не понимая и давно отчаявшись понять. Я не вижу их глаз, но трогаю их корявые равнодушные руки, и мне кажется, что у них из глаз течет дремучесть. Мне их нестерпимо жалко. И я их боюсь. Именно они – серые, примитивные, дремучие, безобидные вроде бы, – основа всякого фашизма. И черного, и коричневого, и красного. Они при случае ужасно мстят за свою дремучесть… От них – физическое истребление интеллигенции, истребление всех сколько-нибудь более, чем эти дремучие, культурных людей.
В студенческие годы, когда в первой своей публикации я написал: «Каждый человек – это целый мир», – я проецировал на всех собственную страстную увлеченность творчеством и воссозданием доступной мне культуры. Мне всерьез казалось, что все люди такие, только почему-то стесняются и прячут, маскируют под дремучестью душевную красоту и духовное богатство. Я видел дремучесть, но не верил в нее, – тем более, что я был под обаянием революционно-демократического идеала, некрасовского народолюбия, умиления, любования народом, столь свойственного до 1917 года русской интеллигенции.
Перестройка и последующее озлобленное растаптывание и сладострастное обхаркивание всего, что мне было и осталось дорого в советской культуре (то есть культуре, созданной в советскую эпоху вопреки сталинскому террору, неслыханному чиновничьему произволу политической системы), – нигилизм якобы «демократов» освободил меня от народолюбия. Тех, кто, разочаровавшись в одном вожде, тут же ищет себе другого, я стал называть чернью и сбродом. Правда, в работах Ленина, написанных весной 1917 года, я нашел термин «развратитель масс», несущий ту самую смысловую нагрузку, что и слово «вождь» («фюрер») в последующую эпоху фашизма. Ленин говорит, что те, кто обманывает народ звонкими фразами вместо честного анализа его проблем и поиска их решения, – не политические вожди, а «развратители масс». Трудно в данном случае удержаться, чтобы не обернуть на самого Ленина его излюбленную насмешку над своими оппонентами, которые «побивали сами себя». Определением «развратитель масс» Ленин именно сам себя и побил, охарактеризовав как нельзя более точно. Ну, тем более, ничего, кроме гадливости и презрения, нельзя испытывать к людям, которые, разочаровавшись в одном развратителе, тут же ищут себе другого… Своим-то умом жить никак не хотят, сами за себя отвечать никак не желают…
Я говорил о примитивных взрослых, – примитивных окончательно, – навсегда толстокожих, тупых, бездуховных и бездушных. Детский примитивизм иной. Он может перейти во взрослый, летальный, а может смениться чуткой восприимчивостью, духовным богатством, душевной щедростью и космической ответственностью.
Долгие десятилетия слепоглухонемые воспитанники Сергиево-Посадского детского дома, примитивно, весьма бессодержательно общаясь только между собой и с педагогами, этот свой способ существования и нищету общения проецировали по ту сторону детдомовского забора. Оттуда иногда появлялись родители, приходили слепоглухие рабочие, бывшие воспитанники детдома. И дети обобщили: на свете бывают только ученики и рабочие. Мое появление поставило их в тупик. «В каком классе ты учишься?» – «Я уже не учусь в школе». – «Ты работаешь, делаешь булавки?» – «Нет…»
Поездки в пионерские лагеря, а позже в лагеря Детского ордена милосердия, резко расширили кругозор слепоглухонемых ребят, познакомили их со здоровыми детьми и другими инвалидами – слепыми, глухими, олигофренами, опорниками. Среди взрослых тоже были всякие: не только рабочие, но и студенты, люди самых разных профессий, в том числе научные работники. Теперь и мне легче стало объяснять, кем я работаю. Ребята поняли главное: жизнь по ту сторону детдомовского забора неизмеримо богаче, сложнее, чем по эту; большинство детей живут в семьях постоянно, а не только во время каникул; они хорошо видят, слышат, говорят. Разумеется, слепоглухим ребятам пришлось пережить тот факт, что они не такие, как все, но как это открытие ни было неприятно, без него невозможно полноценное личностное развитие. Нельзя скрывать правду, но можно и нужно смягчать ее любовью, вниманием, общением. Если такого смягчения нет, тогда беда, и там, где ходят мимо, не замечая в упор, этим детям нечего делать. Ощущать себя «прозрачным» – кошмарная пытка.
Одна слепоглухая девочка спросила меня, о чем мы разговариваем со зрячеслышащей пионеркой. Мы обсуждали книгу – не помню, какую, но в тот момент, отвечая на вопрос слепоглухой девочки, я книгу назвал.
– Почему она знает, а я нет?
– Потому что она много читает.
Будучи взрослой и живя в родном городе у родственников, эта слепоглухая женщина стала активной читательницей местной областной библиотеки слепых.