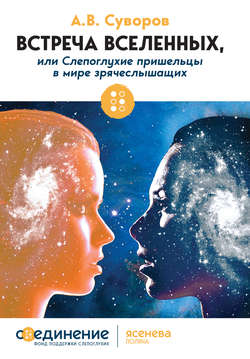Читать книгу Встреча Вселенных, или Слепоглухие пришельцы в мире зрячеслышащих - А. В. Суворов - Страница 7
Часть первая
Основной вопрос
1.2. Иновселенские существа
ОглавлениеЯ был подростком, одним из испытуемых Александра Ивановича Мещерякова, когда он экспериментально исследовал восприятие нами брайлевских текстов и дактильной речи. Он пришел к парадоксальному выводу, что пальцы зрячих на самом деле чувствительнее пальцев слепых. А кажется наоборот, потому что зрячие не умеют осязать. На самом же деле наши натруженные брайлевскими точками пальцы грубее.
Просто чувствительность и восприятие – это две большие разницы. Чувствительность – ощущение, способность ощущать, чувствовать. А восприятие – это создание и актуализация, воспроизведение образов из материала ощущений. Ощущения обозначаются термином «сенсорика», а восприятия – «перцепция».
Восприятие носит вероятностный характер, то есть основано на том, появление каких объектов восприятия вероятнее. Мещеряков различает объективную и субъективную вероятность опознания объекта восприятия. Объективно вероятность предъявления букв алфавита одинаковая, а субъективно что-то можно ждать больше или меньше. Объективно материала для создания образа может быть совершенно недостаточно, однако благодаря субъективной вероятности – точному ожиданию, прогнозированию объекта – можно обойтись минимумом сигнальных признаков, чтобы адекватно, безошибочно опознать объект. Александр Иванович со своими сотрудниками показал это экспериментально на примере восприятия дактильной речи слепоглухими воспитанниками Загорского детдома.
Он отмечал, что в дактильном «разговоре» при восприятии предъявляемых дактилем слепоглухонемые почти не производят ощупывательных движений пальцами. Во время разговора ладонь воспринимающей руки с отставленным большим пальцем и слегка согнутыми остальными пальцами нависает над «говорящей» рукой. Воспринимающая рука делает ощупывательные движения лишь при предъявлении первых дактилем пальцевого слова. При восприятии последующих дактильных букв «слушающая» рука лишь слегка касается говорящей руки. Движения сохраняются, они лишь становятся малозаметными, так как вся активная деятельность восприятия осуществляется внутренней (ладонной) поверхностью руки, скрытой от глаз наблюдателя.
Было решено проверить, каков характер этих «скрытых» прикосновений и велика ли площадь касания ладонной поверхности воспринимающей руки. Начались опыты с использованием, как ее назвали, «методики черной руки». Предъявляемая для восприятия слепоглухонемому ученику рука покрывалась черной краской такого состава, что она легко стиралась, и каждое прикосновение к ней оставляло светлые следы. Они сразу же фотографировались, потом руку «красили» заново и предъявляли к следующему восприятию. В качестве объектов предъявлялись дактильные буквы.
Обращала на себя внимание незначительность площади прикосновения воспринимающей руки к «говорящей». Совершенно очевидно, что получаемой при таком прикосновении информации было недостаточно не только для того, чтобы сформировать образ пальцевой конфигурации, но и для опознания знакомой дактилемы. Однако буквы в дактильном разговоре с легкостью узнавались по малейшим прикосновениям.
«Возрастание субъективной вероятности появления объекта восприятия, – пишет А. И. Мещеряков, – сопровождается сужением сферы опознавательных признаков, являющихся сигналами образа предмета, то есть увеличением сигнальности восприятия и уменьшением времени опознавания. При расхождении субъективной вероятности с объективной вероятностью появления объекта восприятия происходит расширение зоны опознавательных признаков, то есть сигнальность восприятия уменьшается, время опознавания увеличивается, а сам процесс по своему характеру приближается к ориентировочно-исследовательской деятельности, которая служит основой для формирования нового образа предмета».[9]
Сузишь тут… Помню чувство брезгливого обалдения, когда в техническом кабинете Загорского детдома, где производились эти опыты, Александр Иванович вдруг заговорил со мной какой-то неожиданно «грязной» рукой. Захотелось просто отдернуть свою воспринимающую руку: что еще за шутки? Разумеется, я старался как можно меньше касаться «испачканной» руки экспериментатора, и сигнальность моего восприятия, естественно, максимально возросла.
На меня часто сетуют за то, что я сжимаю дактилирующую руку, перебивая собеседника на полуслове. Есть грех. На самом деле, я просто уже понял, что мне хотят сказать, и предлагаю продолжать с того места, где кончается моя догадка. Хочу помочь собеседнику, особенно когда он только привыкает писать зрячие буквы у меня по ладони. Говорю ему вслух, что он собирается писать. Если я догадался правильно, – а чаще всего именно так, – можно пропустить то, о чем я догадался, и продолжать с этого места. Но мало кто, особенно на первых порах, пользуется моей услужливой догадливостью. Человек продолжает чертить у меня по ладони именно то, что я только что озвучил. Поглощенный процессом письма по ладони, такого мучительно медленного поначалу дактилирования, собеседник не слышит моих попыток помочь, ускорить наше общение. И принимает нас, потрясающе догадливых слепоглухих, чуть ли не за телепатов…
Разницу между ориентировочно-исследовательской деятельностью и сигнальным восприятием могут очень наглядно продемонстрировать… водяные землеройки. Находясь в знакомой обстановке, они строго следуют своим привычкам. Особым, поистине поразительным постоянством отличается их манера следовать однажды избранным путем.
«В незнакомой местности куторы никогда не передвигаются быстро, разве что под влиянием крайнего испуга – в этом случае они мчатся вслепую, натыкаются на различные предметы и обычно находят себе ловушку в каком-нибудь глухом тупике. Когда животное не испугано, оно передвигается в новом месте медленно, шаг за шагом, непрерывно ощупывая вибриссами пространство справа и слева от себя… После того как все это повторится несколько раз, кутора, без сомнения, начинает узнавать местность. Землеройка с предельной точностью воспроизводит все те движения, которые проделывала на этом пути ранее. Попадая на знакомый участок трассы, пройденной уже не один раз, зверек стартует медленно, он тщательно определяет свое местонахождение при помощи вибрисс. Внезапно он наткнулся на знакомый ориентир и помчался вперед, тщательнейшим образом повторяя все прыжки и повороты, которые совершал накануне… Часто случается так, что посреди тщательно отработанного пути остается еще одно особенно трудное место, и здесь зверек постоянно теряет свои ориентиры и вынужден прибегнуть к помощи обоняния и осязания. Он энергично обнюхивает и ощупывает все вокруг, пока не находит начало следующего хорошо известного этапа. Таким образом, он соединяет пройденный и оставшийся участки пути. Когда дорога проложена окончательно, кутора отныне столь же прочно привязана к ней, как локомотив – к рельсовому пути. Зверек не может отклониться в сторону даже на несколько сантиметров. Если ему случится отойти хотя бы на дюйм от дороги, он тотчас же начинает старательно разыскивать знакомые приметы. Можно искусственно спровоцировать землеройку на эти поиски, если внести незначительные изменения в ее привычный маршрут. Любое существенное преобразование на пути, по которому животное постоянно следует, приводит его в полное замешательство».[10]
Прочитав это место в книге Лоренца впервые, я сразу узнал в водяных землеройках себя. Это я, осуществляя ориентировочно-исследовательскую деятельность, залезаю во все тупики, отмахиваясь от суетящихся вокруг зрячих, пытающихся провести меня по прямой в полную неизвестность. Лишь обследовав один за другим все тупики, набивая при этом шишки, я постепенно спрямляю свой маршрут, хорошо зная, куда мне не надо. Так я изучил окрестности дома, в котором живу, и так же изучаю во время поездок помещения, в которых нахожу временное пристанище.
А. И. Мещеряков убежден, что сигнальное восприятие возможно лишь на основе ориентировочно-исследовательской деятельности, в процессе которой только и может формироваться образ. Сначала исследуется весь шкаф, а затем мы этот шкаф узнаем, прислонившись спиной к его углу либо прикоснувшись рукой к его дверце. Мещеряков называет это независимостью образа от сигнала, полученного от опознаваемого знакомого предмета.
Действительно, когда учат дактилологии слепоглухих, они сначала ощупывают обеими руками предъявленную дактилему, а затем с трудом воспроизводят ее. И лишь очень постепенно, используя пальцевый алфавит в повседневном общении, слепоглухой сначала начинает воспринимать дактилемы одной рукой, давя на них всем «стопудовым урожаем», а затем ограничивается все более легкими прикосновениями. Он не формирует новый образ, а узнает уже знакомый по все меньшему числу признаков-сигналов.
В апреле 1981 года меня попросили помочь исправить восприятие дактильной речи двумя загорскими подростками. Они буквально висели на дактилирующих руках педагогов, те изнемогали под «стопудовым урожаем», не выдерживали и начинали самым базарным образом торговаться с ребятами, умоляя их давить хоть чуть поменьше. Но стоило педагогам чуть ускорить свою речь, как немилосердный прессинг возрастал.
Ну, я человек закаленный, студентом привык к дактильному переводу устных речей на огромной скорости. Я сразу понял ошибку педагогов, пошедших у мальчишек на поводу: они позволяли мальчишкам тормозить скорость своей дактильной речи: чуть быстрее – и тормозящий нажим возрастал… Мальчишки вообще предпочитали жестовое общение.
Я начал говорить с ними беспощадно быстро – как хотите, так и приспосабливайтесь! Они стали по привычке давить на мои руки, – иногда я к ним обращался к обоим сразу, – я не снижал темп. Они поглаживали меня по рукам – жест, означающий просьбу говорить помедленней. Я – ноль внимания, фунт презрения. «Ну, держись, мы тоже так можем!» – И они в свою очередь пытались мне дактилировать на максимально доступной им скорости. Отведай, мол, каково нам! Я понимал их как ни в чем не бывало. Недели через две или три я таки добился своего – прессинг постепенно исчез…
Я любил передразнивать маму, поместив левую руку у нее на шее: большой палец под подбородком, остальные под затылком, ладонь под правым ухом. Мама кивает головой – я тоже киваю. Мама поворачивает голову справа налево и обратно – я тоже. Мама качает головой – и я.
Наконец мама с испуганной надеждой спрашивает, неужели я вижу ее голову? А где моя левая рука, и не замечает – привыкла, что она всегда там. Обнаружив ее у себя на шее, сердито сбрасывала: горькое разочарование…
Вот пример сигнального восприятия: мне не надо было каждый раз заново ощупывать всю мамину голову, чтобы копировать ее движения. Достаточно было неподвижно держать левую руку на маминой шее.
Дилетанты любят подсчитывать неизвестно с какого потолка взятые «проценты информации», которые мы получаем от той или иной – зрительной, слуховой, тактильно-двигательной – модальности рецепции. Столько-то от зрительного анализатора, столько-то от слухового, столько-то от тактильно-двигательного. Чушь это все. Никто никогда – во всяком случае, среди серьезных ученых, а не подбитых ветром фантазеров из СМИ – на самом деле, этих «процентов» не считал.
Пресловутые «проценты» дает то, какая рецепция играет ведущую роль. У меня – тактильно-двигательная, и я получаю в ее материале ровно те же самые «проценты информации», которые зрячий получает от зрительной рецепции. Ибо дело в познаваемом нами предметном мире, а не в той или иной рецепции – зрительной, слуховой и т. д., – из материала которой формируются образы предметов.
Как отмечал Мещеряков, человек, ощупав с закрытыми глазами несложный предмет, может его нарисовать; восприняв предмет зрительно, он также может воспроизвести его на бумаге. В том и другом случае образ предмета относительно независим от характера рецепции. Подобная независимость имеет место и у слепоглухонемых детей: ощупав предмет правой или левой рукой, или губами и языком (обладающими наиболее тонкой тактильной чувствительностью), или ногой, слепоглухонемой ребенок бывает в состоянии с одинаковым успехом воспроизвести этот предмет в лепке. Следовательно, и в этом случае мы также имеем дело с независимостью образа от характера познавательной рецепции.
«У взрослого зрячего человека ведущей считается зрительная рецепция, – пишет А. И. Мещеряков. – Получая тактильно-двигательную афферентацию, мозг человека трансформирует ее в модальность зрительной рецепции. Поэтому и при воспроизведении предмета, воспринятого ощупью, у зрячего человека возникает зрительный образ. Конечно, это положение не абсолютно. Мир предметов велик, так же обширен и мир образов, и в зависимости от разных условий и нужд практической деятельности одни образы хранятся как следы одной рецепции, другие – как следы другой. Речь идет не об отдельных случаях, а об общей тенденции взаимоотношения различных анализаторов при формировании образов предметов внешнего мира».[11]
Что касается «отдельных случаев», то у меня, например, первоначальная форма письменной, вообще алфавитной речи – система Брайля, которой я овладел в семилетнем возрасте. В одиннадцать лет овладел дактилологией, в восемнадцать – зрячими печатными буквами во всю правую ладонь (левую не тренировал). И в какой бы форме я ни получил информацию, – в дактильной, графической (письмо по ладони) или какой-либо другой, – любая не-брайлевская форма у меня мгновенно преобразуется в брайлевскую. Так что даже внутри ведущей тактильно-двигательной рецепции преобладающая, ведущая форма хранения и оперирования информацией лично у меня – брайлевская. Как бы свободно я ни воспринимал другие алфавиты, думаю только по Брайлю и только по Брайлю помню все, что мне сказали с использованием других алфавитов. Не рискую обобщать, что первоначальный код всегда первичен по отношению к любым другим, позже освоенным кодам, но у меня получилось именно так: брайлевский код – первоначальный и первичный по отношению к кодовым системам, которыми я овладел позже.
Независимость образа от характера рецепции относительна. Потеря ведущей рецепции в раннем возрасте может приводить к угасанию образов, в таких случаях новые раздражители не актуализируют ранее сформированных образов, не становятся их сигналами. Природа образа прямо зависит от характера ведущей рецепции. При потере ведущей рецепции в корне меняется характер ориентировочно-исследовательской деятельности, продуктом которой является образ.
Короче говоря, слепоглухому и зрячеслышащему предметный мир представляется совершенно по-разному. Наши образы из разного материала сделаны. И взаимопонимание между нами возможно лишь потому, что, из какого бы рецептивного материала ни были сделаны наши образы, они адекватны отражаемому ими одному и тому же предметному миру. Иначе мы были бы дальше друг от друга, чем если бы из разных галактик… Не инопланетные, не иногалактические, а иновселенские существа…
Однажды в горном палаточном лагере зрячеслышащий подросток спросил у меня:
– Верите ли вы в пришельцев?
– А чего в них верить? – лениво потянулся я спросонья. – Я один из них.
– Чо? – обалдел подросток, на четвереньках пятясь от меня из палатки.
Так и не поверил, что я шутил… Но вот почитаешь Александра Ивановича и задумаешься: какая же на самом деле доля шутки была в той шутке?
Меня всегда удивлял, смешил и немного раздражал, например, дежурный вопрос, видят ли слепоглухие сны. В конце концов, дошло, что людей интересует, именно видим ли. Не осязательно, а зрительно. На одной из встреч мне пытались объяснить: вот если мы, зрячие, закроем глаза, появляется как бы черный экран, на котором все образы… А у вас, слепоглухих, вроде и так этот экран постоянно… Или как? А как насчет «цветных снов»?
Про «цветные сны» – это каверза, провокация, потому что есть предубеждение: если видишь «цветные сны» – значит, талантливый, а если нет – значит, простейшее, вроде амебы. Кто же себя с амебой уравняет? Впрочем, я бы уравнял, чтобы подразнить вопрошателей. Я могу себе это позволить, ибо моя талантливость вне всяких сомнений, независимо от пестрой расцветки или однотонности моих снов… Моя любимая поговорка: «От скромности не умру».
Вообще же понятно, конечно, о чем спрашивают… Наяву ничего не видишь, а во сне? Спишь – не шевелишься, чурбан чурбаном, ничего не ощупываешь, как же можешь видеть сон? А если тем не менее, то что видишь?
Пытаюсь ответить всерьез:
– Обычно своих снов не помню, проснувшись, но сюжетно они запутаны…
– А цвет?
Опять тест на амебообразность. Хитрю. Знаю, где собака зарыта. Только уж очень не хочется откапывать.
Нет у меня никакого экрана. А что есть? При хорошем самочувствии – прохлада в черепной коробке. Светлая прохлада – у меня остаточное светоощущение, отличаю, когда светло, когда темно. А если бы не отличал? Ну, просто прохлада, как вот сейчас в моей комнате, в которой включен на охлаждение кондиционер… И в этой прохладе – как бы объемные модели того, что я себе представляю… Под кумполом, ближе ко лбу… Сейчас – набираемый мной на органайзере брайлевский текст. Не на каком бы то ни было фоне, а в виде комбинаций точек, висящих между кумполом и лбом. Черепная коробка – вроде кабины космического корабля, когда там невесомость.
Точно – нет фона. А что есть? Наверное, индивидуально. У меня вот некое вместилище, внутри него при хорошем самочувствии режим такой прохладной невесомости, в которой подвешены объемные образы – модели, макеты… Невесомость не полная, модели не переворачиваются, может, и не висят, а скорее, плавают, в центре вместилища… Описываю приблизительно. Точнее не получается.
Меня спрашивают о том, что на философском и психологическом языке называется чувственной тканью сновидений. Или, в физиологических терминах А. И. Мещерякова, о той рецепции, что поставляет материал для образов во сне. Наяву – тактильно-двигательный анализатор, а во сне? Снюсь ли я себе зрячим и слышащим? Или все таким же слепоглухим, как и наяву?
С возрастом – все больше слепоглухим… Но все же не всегда… А каким – когда не слепоглухим? Каким-нибудь книжным… Ведь персонажи книг не слепоглухие… Начитаешься фантастики или еще чего – мало ли кем себе приснишься… И не дактильно же с Чапаевым или Марксом разговаривать…
Остаточный слух и светоощущение во сне присутствуют. А цвет – нет. Откуда? Цвета я никогда не различал. Этот вид рецепции мне неизвестен. Разве что из книг и общения со зрячеслышащими. Но никакого чувственного опыта за этим у меня не стоит. Только культурный опыт. Красный? Красная армия. Красное знамя. Красный – синоним красивого (красная девица, красное солнышко). Вот это – культурный опыт. А красный цвет – не знаю.
Рецепция, отсутствующая наяву, не может появиться и во сне. Чудес не бывает. Во всяком случае, таких.
– А как вы отличаете сон от яви? День от ночи?
Ох уж эти мне зрячеслышащие созерцатели. Видят – и воображают, будто отличают день от ночи по степени освещенности. День – когда светло, ночь – когда темно… А как быть с полярным днем и полярной ночью?
Между прочим, я не абсолютно слеп. Слабенькое, но светоощущение до сих пор, на седьмом десятке. Светло или темно – вижу. Горит свеча или нет – вижу в темноте. При ярком дневном или электрическом свете свечу не вижу.
И у меня есть часы. Механические наручные, с откидывающейся крышкой и точечным циферблатом. Цифр нет, есть точки. 12, 3, 6 и 9 – по две точки; 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 и 11 – по одной точке. Нажал кнопку, откинулась крышка; потрогал стрелки, на какие точки по краю циферблата они указывают, – и узнал время. Есть и системное время – в компьютере, в органайзере, в айфоне. Нажал кнопку в органайзере – на брайлевском дисплее время: сейчас – 06:38. Всю ночь работаю над книгой.
Сон от яви отличается вовсе не тем, светло или темно. Тонусом. Бодростью. Активностью. Днем я активен вынужденно, когда надо ехать на какие-то мероприятия. А так вялый, сонный. Ну и сплю. А чаще всего после двух часов ночи, иногда раньше или позже – самое бодрое время. Лучшее для литературной работы. Перед мероприятиями приходится принимать стимулирующие таблетки. Для умственной работоспособности. Дома без них обхожусь – и работаю в охотку ночью и рано утром. Не насилую себя, загоняя в искусственный режим. Для умственной работы важно выспаться. А ночью или днем – неважно, это все условности. Дома я могу себе позволить работать тогда, когда работается лучше всего. А если начну воевать с организмом – ничего не буду успевать. За пять-шесть часов ночью и рано утром сделаешь больше, чем за десять-двенадцать днем, преодолевая сонливость. При моем постоянном головокружении надо ловить часы наибольшей бодрости, а не бездарно пропускать их на том основании, что в это время «люди спят». Другие спят – им на работу; когда мне на мероприятие, тоже сплю. Но, вообще-то, я – надомник, и, к счастью, имею роскошную возможность работать, когда работается. Соответственно состоянию здоровья.
Еще спрашивают, как мы ощущаем движение, если не видим перемещения предметов вокруг себя.
Вибрация корпуса транспортного средства. Автомобиля, теплохода, вагона, самолета. Всем телом чувствую неровности дороги, когда меня везут в инвалидной коляске. Чувствую повороты коляски, автомашины. Правда, иногда меня в коляске везут так плавно, что я не замечаю поворотов. Но обычно в машине поворот – один из важнейших ориентиров. Вот такси повернуло направо и почти сразу налево (завалилось на левый бок, потом на правый); это оно заехало в «карман» перед переездом через Ярославское шоссе – значит, скоро мой дом. Вот машина затряслась на неровностях – почти приехали…
Большое удовольствие доставляет встречный ветер при быстрой езде. Сейчас вагоны дальних поездов скучные, герметичные. А в молодости любил верхнюю полку с подветренной стороны, при открытом окне, особенно ночью: лежишь на животе и пялишься в темноту, пытаясь увидеть проплывающие мимо огни. Всегда любил до предела опускать боковое стекло в легковом автомобиле. В молодости любимыми аттракционами были американские горы, петля Нестерова и автодром. Горы – все тридцать три удовольствия: грохочущая вибрация, стремительные спуски/подъемы/виражи, швыряет то вправо, то влево… Ну и встречный ветер, конечно… Ух! Петля Нестерова – несколько раз повисеть на ремнях безопасности, вцепившись в подлокотники, вверх тормашками. Автодром – использовал светоощущение, чтобы врезаться в скопления автомобильчиков. Толкотня со всех сторон, а, в конце концов, уткнешься в угол, в ограждение и пытаешься выбраться оттуда, чтобы опять разбойничать… Тар-р-ран!
Я всегда любил прогулки по воде, но если не было возможности почувствовать встречный ветер, испытывал глубочайшее, острое детское разочарование. В студенческие годы по Москва-реке иногда удавалось прокатиться на «Ракете» с открытой кормой. Я, правда, ради встречного ветра предпочитал стоять на верхней ступеньке трапа, держась за перила – к негодованию водников, безуспешно пытавшихся меня оттуда согнать вниз. Удирал кататься на речном трамвае один, сидел там на кормовой открытой палубе под навесом, чтобы не палило солнце, и читал прихваченную книжку, готовясь к экзаменам.
Любил кататься на лодке и сам греб или следил за журчащей вдоль бортов водой, опустив за борт в воду руку.
Огромным, но очень редким удовольствием всегда была моторная лодка. На всю жизнь запомнил поездку на моторной лодке по Ангаре в 1962 году. В 1981 году меня прокатили на спасательном катере по Иссык-Кулю. Шестиместный такой весьма комфортабельный открытый водяной автомобильчик. Мне сказали, что он красный. Я был в таком восторге от той поездки, оказавшейся единственной в моей жизни, что в тот же вечер разродился стихотворением «Мечта» – подтекстовкой под невесть где и как подхваченную мною вальсовую мелодию:
МЕЧТА
Тут не меряна глубина.
Нитка берега чуть видна.
Красный катер трясется, прыгает, —
Как булыжник, тверда волна.
Славный щедростью Иссык-Куль
Все сокровища развернул:
Солнце, брызги всецветной радугой,
Ветра встречного ровный гул.
Вновь мечтаю: если бы весь
Так же искрился мир, как здесь!..
Смыть бы чистой волной прозрачной
Все, что мутного в людях есть!
(12 августа 1981; 5 мая 1990)
9
Мещеряков А. И. О вероятностном характере сигнального восприятия у слепоглухонемых // Дефектология. 1969. № 2. С. 18–29.
10
Лоренц К. Кольцо царя Соломона [Электронный ресурс] /Электронная библиотека RoyalLib.com. Электрон. дан. М.: Знание, 1980. Режим доступа: http://royallib.com/read/konrad_lorents/koltso_tsarya_solomona.html#0, свободный.
11
Мещеряков А. И. Слепоглухонемые дети… С. 155–156.