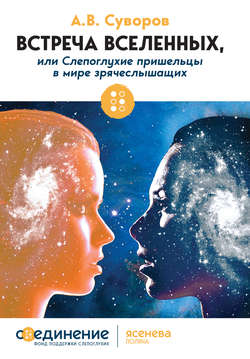Читать книгу Встреча Вселенных, или Слепоглухие пришельцы в мире зрячеслышащих - А. В. Суворов - Страница 11
Часть первая
Основной вопрос
1.6. Классификация, идентификация, рефлексия
ОглавлениеТеперь, продолжая отвечать на вопросы А. А. Бодалева – о классификациях. Лично у меня их очень много, по самым различным критериям.
Например, по критерию нарушенного, или изначально не налаженного, или же нормального, не затрудненного общения.
Еще критерий: одним стыд глаза выедает, а другие выходят из воды сухими, даже не встряхиваясь.
Критерий третий: одни умеют каяться (искренне признавать свою действительную вину), а другие не умеют – либо из самолюбия (признают «в глубине души», но не могут «унизиться» до признания вслух), либо из-за полного отсутствия самокритичности, из самообожествления, из искренней убежденности в личной непогрешимости. Есть еще демагоги – мастера не просто признавать, не просто отрицать свою вину, а взваливать ее на обвинителя, вывернуть истину наизнанку и вывернуться, да так, что обвинитель и сам не уверен, кто же в конце концов провинился: пакостник-демагог или его обличитель. Я перед такими демагогами бессилен, поэтому они мне особенно ненавистны. Единственное оружие, которое я против них придумал – это не связываться с ними, в упор их не замечать, игнорировать, как тот раздор из басни Эзопа, который чем больше бьешь, тем он сильнее разрастается.
Критерий четвертый: способ самоубийства – физического или морального, вследствие нетерпимости к другим или нетерпимости к себе, вследствие неумения принимать себя и других такими, как есть. Вследствие, наконец, неприемлемости наличного качества жизни – и невозможности (действительной или кажущейся) добиться желаемого качества.
Критерий пятый – отношение к слепоглухоте (шире – к любой инвалидности, к любой хронической болезни, к любому постоянному затрудняющему жизнь «фактору»). Либо игнорировать, либо исследовать, либо спекулировать. Все это могут и окружающие, а не только сам слепоглухой. Я предпочитаю исследовательский подход с обеих сторон: так легче друг друга понять.
Критерий шестой: юмор – ласковый, необидный, ерошащий волосы у ребенка на макушке; злой, саркастический, убийственный; примитивный, даже не обидный, а скучный, что ли, «несмешной»; наконец, отсутствие какого бы то ни было юмора, когда некто «серьезен как гроб».
Критерий седьмой: способность к благодарности (либо есть, либо нет). И еще – цена этой благодарности: нередко «в благодарность» от нас ждут и требуют отказа от себя, от собственной воли, от собственного образа мыслей, образа действий, образа жизни; ждут и требуют полного подчинения «благодетелю». От меня тоже этого много раз ждали и требовали, но, не дождавшись и получив категорический отказ, уличали в том, что я классифицирую друзей на «черных» и «белых», обзывали неблагодарным и предателем… Что верно, то верно: лучше «предать» рабовладельца, «кукловода», притворившегося благодетелем, чем самого себя. Разумеется, дилемма эта чаще и быстрее всего осознавалась мной, ибо речь шла о моей голове, о моей судьбе; агрессоры же искренне себя считали благодетелями, и их бывало очень жалко.
Но себе я тоже ведь не враг и поэтому в некоторых случаях сам могу предъявить очень жесткий ультиматум, потребовать, например, у жившего со мной брата, от которого деваться некуда, отказа от собственного круга общения, который фатально замыкался на отбросах общества – алкоголиках, наркоманах и уголовниках. То есть предъявлял ультиматум в интересах обоюдной безопасности – и своей, и своего брата. В том случае, конечно, если приходилось убедиться, что на сознательность и ответственность брата (инвалида с детства – олигофрена в стадии дебильности) рассчитывать по меньшей мере трудно, если вообще можно. И если ультиматум можно подкрепить достаточным авторитетом – не только моральным. Например, финансовой властью – тем, что все деньги у меня.
Когда брат женился и ушел в семью жены, жесткая взаимозависимость исчезла, а с ней и необходимость в ультимативном обращении. Со мной стал жить названый сын – официальный попечитель.
Кстати, обратите внимание на разницу: опекун опекает, несет юридическую ответственность за недееспособное лицо, то есть неспособное отвечать за себя самостоятельно, – за ребенка, например, или тяжелого олигофрена; попечитель же печется о лице, юридически дееспособном, но из-за проблем здоровья ограниченного в возможностях бытового и отчасти социального самообслуживания. Я, например, физически не могу мыть полы, стирать, самостоятельно пользоваться общественным транспортом, картой Сбербанка… Но интеллект в порядке, и юридически я дееспособен настолько, что работаю при случае с детьми, преподаю, пишу книги… Поэтому мой названый сын – мой попечитель, но ни в коем случае не опекун. Юридически мы оба дееспособны.
В общем, иногда можно быть очень мягким, а иногда приходится быть очень жестким. Смотря с кем. Смотря по тому, какова степень взаимной зависимости, есть куда или некуда деваться друг от друга, в чем и насколько можно друг на друга рассчитывать. А глобальная – и потому абстрактная – мягкость так же неприемлема, как и абстрактная, со всеми подряд, жесткость. Абстрактная мягкость превращает тебя в жертву каждого, кто не побрезгует на твоей шее прокатиться, а абстрактная жесткость превращает тебя в палача. Ни жертвой, ни палачом, естественно, быть не хочется. Значит, остается исследовать, каждый раз отдельно решать, насколько можно позволить себе мягкость и насколько приходится проявлять жесткость.
Критерий восьмой: заинтересованность. Избирательная – или детски-всеядная. Или тупость, апатия.
Сразу же всплывает и критерий девятый – креативность, способность или неспособность к творчеству. Причем речь идет не просто о познании. Заинтересованность в другом человеке, а следовательно – творчество отношений с этим человеком. Любовь. Этическое творчество.
Критерий десятый – темперамент. Холерик – вечная эмоциональная взбаламученность до самого дна; сангвиник – поверхностная эмоциональная разлохмаченность (те и другие делятся на умеющих и не умеющих сдерживаться). Меланхолик – подземные атомные взрывы; флегматик – на все реагирует «предельно рационально», как черный ящик, молчит. Меланхолики делятся на умеющих и не умеющих выражать свои чувства, а флегматики – на считающихся и не считающихся с чужой эмоциональностью, как-то отвечающих на нее или просто созерцающих. Эту классификацию я где-то вычитал, и, возможно, запомнил не совсем так, как это общепринято.
Критерий одиннадцатый: партнерство. По сексу, по спорту, по общению, по проблемным «остроугольным круглым столам»… По решению любых проблем мирными, ни в коем случае не конфликтными средствами, ибо в конфликтах бывают лишь противники. Особая разновидность партнерства – соперничество: есть противостояние, но нет конфликта.
Критерий двенадцатый: дотошность – до занудства, беспечность – до русского «авось»; ответственность и безответственность; опытность – неопытность в чем-либо.
Критерий тринадцатый: взаимность. Обязательна или нет. Готовность взять на себя «односторонние обязательства» или паритет, равенство, равноправие во всем, до смешного, до абсурда. В молодости я был сторонником паритета. Потом, пожалуй, переборщил с односторонними обязательствами, беря на себя больше посильного. Теперь же пробую сочетать одностороннюю ответственность и паритетную, смотря по ситуации. Предпочитаю все же одностороннюю, когда все зависит от меня и мне по силам.
Критерий четырнадцатый: правда. Искать правду, бороться за правду, жить по правде. Предпочитаю первое и третье. «Борьба за правду» освобождает от необходимости жить по правде, откладывает жизнь по правде до окончательной победы «в борьбе за правду». В случае поражения жизнь по правде считается невозможной, ибо для нее «нет условий». На словах все за правду, противников у правды не бывает. Я пришел к выводу, что на деле противники правды – именно борцы за правду.
Критерий пятнадцатый – инвалидность. Как я определил ее в автореферате кандидатской диссертации, инвалидность – это затрудненность участия в решении проблем, от глобально общечеловеческих или общенародных до семейных. Инвалидность – это обездоленность, лишенность доли участия в жизни, большая или меньшая выключенность из жизни. С этой точки зрения всякая инвалидность – прежде всего социальная, ибо означает хроническое затруднение социальной жизнедеятельности в каких бы то ни было ее разновидностях и масштабах. Дальше уже подробности, что именно явилось ближайшим поводом (а не причиной) для возникновения этого затруднения: то ли физический недостаток (слепота, глухота, слепоглухота, хромота, горбатость, общий паралич, навсегда укладывающий в коляску), то ли сиротство, то ли безработица, бездомность, безденежье, то ли общая бездуховность, бескультурье, слепо- и глуходушие, или «заикание совести», по прекрасному выражению Ю. Б. Некрасовой. Классификация по критерию инвалидности может быть весьма подробной.
Критерий шестнадцатый: ореол. Постоянный и меняющийся. Светлый – темный – серый (то есть посередине, между светлым и темным, а что такое цвет – я не знаю); хороший – плохой – ни то ни се; добрый – злой – равнодушный; бодрый – усталый – так себе; «хвостатый» – «бесхвостый» (имею в виду наличие-отсутствие тумана, пространства, марева за спиной; «хвостатый» – чей-то представитель, а «бесхвостый» – сам по себе; пример «хвостатости» у Твардовского: Теркин дерется с немцем, и «самолеты, танки, пушки у обоих за спиной»); уютный – неуютный – безразличный; теплый – холодный (до озноба) – прохладный; целительный – ядовитый – нейтральный… Пожалуй, можно продолжать до бесконечности: тут неисчерпаемый источник поэтических характеристик.
Критерий семнадцатый – несчастье. Каждый несчастен по-своему – и все несчастны одинаково в том смысле, что я категорически не желаю сравнивать, кто несчастнее. Счастье – не отсутствие трудностей, а наличие возможностей для их преодоления. Несчастен беспомощный, бессильный. Счастлив справляющийся. Я – в большей мере счастлив, чем несчастен. А степень счастья и несчастья, силы и бессилия обычно (не всегда, но обычно) прямо зависит от степени одиночества: один в поле не воин. «Закон вечности» Нодара Думбадзе: душа каждого из нас – непосильно тяжела для одиночки; мы можем выдержать тяжесть душ друг друга только вместе, сообща.
Критерий восемнадцатый – взаимопонимание. Можем – не можем, умеем – не умеем, хотим – не хотим понимать друг друга. Что для нас важнее: понять и принять – или «размножиться», свое навязать. А может быть, отвергнуть именно потому, что понято, но неприемлемо, и от этого неприемлемого приходится защищаться.
Критерий девятнадцатый – мужество и трусость. Мужество самокритичности и ответственности за себя (в конечном счете – за весь мир). Трусость неоправданного оптимизма, беспочвенных надежд, отказа от постановки и решения проблем, сознательного закрывания глаз на проблемы, замазывания проблем сопливой жалостливостью и слюнявым «жизнелюбием».
Критерий двадцатый: надежность – ненадежность. Можно или нельзя рассчитывать, полагаться, опираться в чем-то на кого-то. Подведет – не подведет. Это куда сложнее, чем предположенная А. А. Бодалевым классификация по критерию помощи: помогают – не помогают… Нет, тут главная проблема в том, возможна ли с этим человеком взаимопомощь. Сотрудничество. Можно ли довериться ему настолько, чтобы впрячься в одну упряжку, – или не стоит рисковать, ибо это, возможно, пустопляс, который, как в горку, так тебя одного в упряжке и бросит. Тут проверка на посильность «Закона вечности», о котором шла речь выше: выдержит некто Закон вечности или нет.
Критерий двадцать первый: уровень культуры. Дремучий примитивизм в сочетании с зоологической завистью и ненавистью к чужому духовному богатству – психологическая основа фашизма, всякой охлократии. Чернь и сброд (в духовном смысле) – или народ, создатель духовных и материальных ценностей, носитель и источник доброты. Урывание от жизни, зависть, что кто-то больше урвал, – или полноценная жизнь.
Критерий двадцать второй: возраст. Взрослые и дети. Дети мной все любимы, но делятся на пассивных, а может, выжидающих, замкнутых, закрытых, – и активных, инициативных, открытых. С первыми мне очень трудно придумать, чем бы заняться, как бы растормошить, расшевелить их. Со вторыми только успевай поворачиваться: они сами придумывают занятия, и мне остается лишь санкционировать их выдумку своим участием или запротестовать: «Я так не играю!» Мне с инициативными ребятами легко и приятно при всей их подчас приставучести, претензии на то, чтобы мое внимание принадлежало безраздельно им. Я даже благодарен им за этот монополизм: значит, любят. С пассивными же мне очень трудно. Пассивные дети могут быть «удобны» только тем взрослым, которым детство мешает своим существованием, которые поэтому превыше всего ценят в детях послушание.
Одна воспитательница похвалила пятилетнего слепоглухого мальчика, сидевшего на стуле, поджав под себя ноги, низко-низко опустив голову, так что спина колесом:
– Спокойный малыш. Хорошо.
Я промолчал, а про себя подумал: «Спокойный – или пассивный?»
Взрослые же делятся на взрослых и творцов. Взрослые – это те, кто сжег все мосты между собой и собственным и всяким детством; кто, как говорится, «не помнит себя ребенком». Творцы – это те, кто сохранил от детства и многократно усилил существенные черты: непосредственность, любопытство, способность увлекаться – все то, без чего невозможно творчество. Творчество во всех областях, в том числе – и, может быть, особенно, – в области этики межличностных отношений: интуитивная, в смысле не рассудочная, не рассуждающая, доброта, какая-то естественная терпимость. Мастер любви принимает всех такими, как есть, он иначе не может; именно то, что всего труднее всем остальным, вечным борцам за свою независимость, легко и естественно, как дыхание, для мастера любви.
Таким мастером любви, несомненно, была моя мама. По мне, самые лучшие взрослые – это выросшие дети, в чем-то главном и лучшем так навсегда и оставшиеся детьми, а поэтому способные на творчество. Просто взрослых, переставших быть детьми, порвавших с детством, я не люблю. Они скучные, назидательно-нудные, вечно резонерствующие, противные. Это вконец испорченные дети.
Вот сколько критериев для классификации людей я извлек из предыдущего изложения. Думаю, что этот перечень нельзя было оборвать стандартным «и так далее», ибо за меня этот список никто не составит и не закончит. Анализ других моих текстов мог бы непредсказуемо расширить перечень критериев для классификации людей. Только зачем расширять?.. И так ясно, что критериев у меня столько, что всякие классификации вообще-то лишаются смысла. Ибо все эти критерии сводятся, в сущности, к одному – к категорическому отрицанию какой бы то ни было штамповки людей, к признанию уникальности каждого. И тогда кончается наука. Начинается искусство с его вниманием к единичному.
Жизнь вынудила меня свернуть в науку с прямой дороги моего развития, которая лежала – и похоже, пролегла-таки, несмотря ни на что – именно в искусство, в литературно-художественное творчество. Поэтому я никогда не любил, да и не умел, классифицировать. Поэтому любой мой научный текст самым фатальным образом соскальзывает в публицистику, эссеистику и, наконец, откровеннейшую лирику. Так уж я «задуман» с детства, и все попытки изменить этот «замысел», заменить каким-то другим приводят лишь к обогащению первоначального «замысла». Попытка стать исследователем сделала меня публицистом, а попытка стать педагогом-практиком помогла преодолеть кризис поэтического творчества, привела к появлению особого рода любовной лирики, обращенной к детям. А в конце концов, все три сферы творчества у меня давно слились воедино, взаимно обогащают друг друга, и разрывать их, противопоставлять не стоит. Все равно другим быть не смогу.
Алексей Александрович, прочитав эту часть текста, спросил, не потому ли я выдал так много критериев классификаций, что был задет его предположением, будто слепоглухие делят людей на помогающих и не помогающих. Я не возражал – и поэтому тоже.
Идентификация. Если я правильно понял Бодалева, это стремление и попытка стать похожим на кого-то образцового, эталонного, на некий «живой идеал». Кроме того, это осознание себя как чьего-то представителя – человечества, народа, той или иной социальной группы, носителей того или иного мировоззрения…
Я лично идентифицирую себя со всем человечеством и с теми, кто в своей деятельности дорос до общечеловеческого масштаба (классики мировой художественной и философской литературы). Среди тех, с кем я общался лично, это прежде всего Эвальд Васильевич Ильенков и Александр Иванович Мещеряков.
С Э. В. Ильенковым у меня было немало серьезных столкновений по поводу моей пространственной самостоятельности: он за меня боялся, чисто по-отцовски, а для меня это был буквально вопрос жизни и смерти, – я бы не выжил после университета в доме-новостройке, посреди других строящихся домов, а значит, в непролазной грязи, если бы не научился еще в студенческие годы организовывать себе помощь случайных встречных. Но независимо от того, как складывались наши с Э. В. Ильенковым личные отношения, я всегда был сторонником его, и только его, ильенковской, философской позиции и в спорах наших именно к ней апеллировал, упрекая, в сущности, живого Ильенкова за то, что он не такой, как в собственных книгах. Это был юношеский максимализм: мол, в жизни автор должен быть непременно таким же, как в книгах, иначе он, получается, «лицемерит». Теперь-то на личном опыте убедился, что такое уж полное соответствие и невозможно, и не нужно. Чего не хватало – самого себя мумифицировать! И мне теперь, как никогда, понятен пафос ильенковского стона души: «Я живой человек!» На месте Ильенкова я и сам бы мог ответить только таким же стоном…
Разумеется, я всегда идентифицировал себя с мамой. Это был нежный и вместе с тем очень принципиальный человек, никогда не уступавший ни в чем главном – в вопросе ли о моем здоровье, в вопросе ли о моей учебе, в вопросе ли о собственном человеческом достоинстве. Она умела не позволять себя унижать. Мелкий, но характерный штрих: брат покритиковал ее стряпню, чего-то там ему показалось мало, и мама сказала – сам готовь. Самому мне самой вкусной едой всегда казалась та, что получена из маминых рук – как бы ни приготовлено, – и именно самое, с маминой точки зрения, «неудачное», «подгоревшее», я уплетал с особым аппетитом. Плакала, жалела, а везла в школу слепых, где я был в состоянии войны почти со всеми ребятами. Она совершила подлинный подвиг материнской любви, всегда хотела одного – быть нужной своим детям, и в первую очередь мне, как самому, казалось, обездоленному.
На деле получилось, что именно я покоил ее старость в последние десять лет ее жизни (интересно: Мещерякова и Ильенкова я тоже знал и любил последние десять лет жизни каждого из них), и только я способен оказался возглавить и кормить семью, когда это стало не по силам маме.
Она делала то, на что хватает очень немногих родителей: не терпела посредников в переписке со мной и ради этого освоила рельефно-точечную систему Брайля, чтобы самостоятельно читать мои письма и отвечать на них доступным мне способом. Позже много переписывала по этой системе необходимую мне научную литературу, и я поражался, как она, не разгибаясь, печатала на специальной пишущей машинке по двадцать больших страниц за четыре часа – без единого перерыва! Она подменяла моих помощников, я боялся, что приучит их к этому и от них вообще нельзя будет получить даже самую пустяковую помощь (что и выходило на самом деле во многих случаях). Я ворчал на нее за это, а она отвечала потрясающе просто: «Если я не буду с тобой везде ездить, я буду тебе не нужна». И доездилась до инсульта. Она знала, что я ей нужен сам по себе, но странным образом до нее не доходило, что мне она тоже нужна сама по себе, независимо ни от чего, ни от какой самой громадной или минимальной помощи, – лишь бы была. Только после инсульта я смог убедить ее в этом, купая ее, как ребенка, снимая головную боль и онемение в больных конечностях массажем, которому специально поучился по книгам и в санатории. Она всегда была для меня недосягаемым образцом нежности, принципиальности, умения принимать людей такими, как они есть, – все это вместе, в сплаве. Больше, чем ее, я никого не любил, и если вообще научился как-то любить (кого бы то ни было), то это – слабый отсвет ее громадного таланта любви.
Мама заложила фундамент моей личности, на котором потом строило, перестраивало, достраивало множество людей, в том числе, конечно, я сам. Без мамы не было бы меня не только физически (это-то само собой понятно), но, что неизмеримо важнее – личностно. И момент для смерти словно специально выбирала: смогла умереть не раньше, чем окончательно за меня успокоилась (и тем самым – за брата и сестру), увидев защиту моей докторской диссертации, увидев отношение ко мне множества людей, оценку ими ее материнского подвига, увидев все то, что теперь не отпускает меня вслед за ней. Она словно получила разрешение: «Теперь можно и отдохнуть. Он глупостей не натворит». А уйди она годом, даже полугодом раньше – мог бы натворить…
Еще феномен идентификации работает у меня в общении с детьми. Я всегда на стороне детей и всегда, насколько хватает воображения и информации, стараюсь быть на их точке зрения, понимать их изнутри, с их собственных позиций. У меня дело может дойти (хотелось бы, чтобы доходило почаще) до перевоплощения в ребенка, так что наши «я» сливаются в «мы».
Однажды в лагере меня потеряли: пора было ужинать, а меня нет нигде. Я просто-напросто спал у себя в комнате, но столь прозаическая догадка пришла в голову последней. Сначала же меня искали по всей территории лагеря, в самых немыслимых закоулках, несмотря на то, что у меня в то время болела нога, я передвигался с костылем и не во всякий закоулок физически мог попасть. Когда я спросил у начальницы смены, почему же сразу не зашли в мою комнату, она ответила, что учитывалось прежде всего мое отношение к детям, то, что в компании детей я способен забраться куда угодно, хотя бы и с переломами обеих ног. Вообще говоря, они рассуждали совершенно верно, и я был очень доволен такой их логикой, вовсе не учитывающей, как нечто несущественное, любые мои немощи, зато ставящей на первое место мою влюбленность в детей.
Мой названый сын дважды затащил меня в горы, где я прожил в палаточных лагерях по месяцу. Когда в Интернете распространилась весть о первом моем походе в горы, педагогическое сообщество испытало настоящий шок: в горах и здоровым-то нелегко, а как же слепоглухой с нарастающими опорными проблемами?.. Я считаю Олега главной наградой за всю свою жизнь. Нам друг на друга фантастически повезло. Я смог поддержать его в учебе и творчестве, а он самим своим существованием помог мне выжить физически и тоже по возможности помогает в творчестве. Он – мой официальный попечитель, и его поистине самоотверженное попечение, как при жизни мамы, поддерживает мою творческую полноценность. Множество других людей может участвовать в моей жизни только потому, что в ней есть Олег. Не будь его – с большинством из них мы едва ли бы встретились…
В науке много копий сломано из-за сущности человека, из-за того, что человек за существо. «Животное двуногое, но без перьев», «животное, производящее орудия», «социальное», «биосоциальное», «разумное», «безумное» существо… Я склонен считать человека прежде всего эмоциональным существом. Потом уже разумным или безумным. Ответственным или безответственным. Все дело в иерархии эмоций, в том, какие преобладают. Это преобладание и делает человека либо действительно человеком, либо животным, либо человеконенавистником (преступником в широком антисоциальном, античеловеческом, антигуманном смысле, а не только в чисто юридическом).
И я полностью присоединяюсь к христианству в важнейшем пункте, что преобладать должна любовь. Правда, смотря к кому, смотря к чему… В христианстве – к богу, а затем уже к «ближнему». Бога можно интерпретировать как «Человеческий Дух», духовную культуру человечества. Лично у меня любовь к Человеческому Духу, творческая одержимость – главный источник и критерий идентификации себя с другими людьми. Только с духовными, а в случае с детством – с теми, кто может стать духовным. Будущая всеобщая, поголовная духовность (а это значит прежде всего человечность) – вот главный предмет моей постоянной страсти, моего самого сильного, преобладающего чувства. Любовь к будущему духовному совершенству людей, даже без надежды на его осуществимость, – вот мое главное чувство. Тот, кто снисходителен к себе в отношении духовности, кто способен существовать (прозябать) без идеала, без утопии, без романтики, без прекрасной, пусть и кажущейся несбыточной, мечты, без сказки, – тот вызывает во мне по меньшей мере брезгливое безразличие, скуку, а если доведется столкнуться чересчур близко – то и отвращение, и непримиримую ненависть. Это для меня – просто не люди. Какие-то совсем другие существа, неизвестные биологии, но хорошо известные народным сказкам, где их так и называют – «нелюди».
Все хорошо в меру. Идентификация может сыграть с человеком роковую шутку, так что он и не заметит, как откажется от самого себя, от самостоятельной жизненной позиции, спрятавшись навсегда за широкую спину какого-нибудь живого «эталона» – уже не идеала, а идола.
Чаще ли это бывает у слепоглухих, чем у зрячеслышащих?.. Нет статистики, трудно судить, а если «на глазок», то – мне кажется – реже у слепоглухих. Нас, чисто количественно, слава богу, не так уж много. И среди тех, кто вообще дорос до этой проблемы – прятаться или нет от жизни за чью-то широкую спину, – огромное большинство, как и я, предпочитает не прятаться.
Правда, это обычно почти бессознательный выбор: лучше по возможности самим решать свои проблемы, чем смирно ждать, пока кто-то снизойдет, найдет время. Рассчитывать-то все равно особо не на кого обычно… Не желая ждать ничьей обслуги, мои слепоглухие знакомые самостоятельно ходят и ездят, зарабатывают (если есть работа) и покупают. Я с детства действовал так же: если со мной некому (особенно обидно, если «некогда») гулять, я гулял один, как бы мне это ни запрещали, как бы за меня ни боялись. И вообще мы в этом – последователи пророка Магомета, изрекшего, что если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе; мы тоже предпочитаем сами идти, не дожидаясь, пока удосужатся подойти к нам. У меня эта позиция подкрепляется еще творческой идентификацией с человечеством – ни больше ни меньше.
В 2014 году появилась «гора», готовая пойти навстречу слепоглухому «магомету» – благотворительный фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». На его поддержку действительно можно рассчитывать в большей степени, чем на семью и государство. Мне грех жаловаться на мою нынешнюю семью – Олега и его жену Татьяну, но не будь фонда, нам было бы непредставимо труднее.
Рефлексия. Определение рефлексии как «самосознания» приблизительно. Будет точнее, если мы определим ее как теоретическое отношение к жизни через теоретическое отношение к самому себе. Так понимаемая рефлексия – основа, фундамент всей моей деятельности: и творчества, и быта. Я подчас даже слишком пристален к любым возникающим загвоздкам, – до мнительности, до того, что называется «зрить (смотреть) глубже корня», то есть видеть проблему там, где всего лишь маленькое недоразуменьице, и то исключительно у меня.
Особенно наглядно это проявляется в ситуациях бездумного зубоскальства, когда я не знаю, обижаться или нет на ту или иную шутку, показавшуюся мне скользкой, – а также в ситуациях простой неловкости, неуклюжести.
Однажды в присутствии Некрасовой и одной лаборантки мне сунули две плитки шоколада и, как пятилетнему ребенку, предложили поздравить этими шоколадками названных дам с Восьмым марта. Я был смущен именно тем, что поздравлять женщин мне предложили в присутствии, на глазах у этих женщин. Я почувствовал себя униженным и успокоился только через несколько дней, прямо спросив женщин об их реакции на эту неуклюжесть. Они сказали, что ничего не заметили и, во всяком случае, не придали этому никакого значения.
Вообще я очень часто не знаю, как поступить, и очень этим мучаюсь. Завидую тем, кто сразу, не задумываясь умеет вести себя правильно. А значит, меньше имеет поводов себя стыдиться. Такая интуитивная безошибочность была в высшей степени свойственна маме. Она была терпима, всегда готова считаться с человеком таким, как он есть, – «что поделаешь, если он такой», – и если была неправа, то именно по причине чрезмерной подчас терпимости, – неправа именно потому, что терпела совершенно нетерпимое. Но и тут у нее преимущество: о такой неправоте можно сожалеть, зато стыдиться такой неправоты уж никак не приходится. Стыдно, когда сыграл роль палача, а если оказался в роли жертвы – стыдно должно быть твоему палачу, а тебе стыдиться нечего, ты ведь «перегнул палку» не в сторону бесчеловечности, а, как раз наоборот, в сторону человечности. И я всегда восхищался этой маминой способностью, а часто и завидовал ей, потому что мне-то свойственно скорее недотерпеть, чем перетерпеть, – следовательно, взрываться не по делу, а потом мучаться угрызениями совести, стыдом.
Незнание, как поступить, нередкая растерянность там, где другие действуют безошибочно, не задумываясь, у меня, вероятно, связана со слепоглухотой, то есть с недостатком информации, без которой трудно оценить обстановку. Я не знаю, как себя вести, потому что в большинстве случаев лишь догадываюсь, что именно происходит. У зрячеслышащих эти же проблемы возникают, насколько могу судить, не от недостатка информации, а от недостатка «способности к суждению», от слабости или полного отсутствия рефлексии, – словом, от неумения осмысливать избыточную информацию. Я не сомневаюсь, что сумел бы осмыслить информацию – было бы что осмысливать. А вот этого, того, что осмысливать, часто и не хватает. Потому-то и «зрю» иногда «глубже корня», – что же еще остается делать, если в твоем распоряжении больше догадок, чем точных фактов?..
Чтобы не брать других примеров, закончу анализ того же самого, восьмимартовского. Он достаточно элементарен и в то же время наглядно демонстрирует все мои трудности.
Ко мне обращаются, как к пятилетнему ребенку: дают шоколадки и предлагают поздравить тут же сидящих женщин, в то же время подчеркивая, что они «мои сотрудники» («поздравь своих сотрудников»). Я не просто растерян, а задыхаюсь от немедленно вспыхнувшего раздражения, можно сказать, настоящей злобы. Мне хочется грубо оттолкнуть руку с шоколадками: «Сам поздравляй!» Но у меня нет ни малейшего желания учинять скандал. К тому же мне непонятно, почему этот человек позволяет себе со мной так обращаться.
Если б я мог видеть выражение лица, я, может быть, сразу понял бы это. А так мне остается догадываться: провокация скандала? Или простая неуклюжесть, расчет на то, что дактильное обращение ко мне никто не услышит, так что в особой «конспирации» нет нужды?.. Но разве он не понимает, что шоколадки-то видно, если и не слышно его дактильных речей? Если сознательная провокация скандала, то, дав волю своему раздражению, я на нее поддамся. Провокатор будет втихомолку злорадствовать, заставив меня вести себя самым недостойным образом в присутствии женщин. Если же это просто бессознательное неуважение ко мне, проявление некой нравственной недовоспитанности, этической слепоглухоты, надо как-то это загладить. Но как?
Я принимаю шоколадки и… обе протягиваю Ю. Б. Некрасовой: она рядом сидит, а где в данный момент лаборантка, я не вижу. Вынужден звать ее через всю комнату и, черт знает какую чепуху бормоча от смущения, передаю лаборантке вторую шоколадку, забрав ее у Некрасовой. Прямо цепная реакция, нагромождение неловкостей! К тому же от моего внимания не ускользнуло, что первым, скорее всего, безотчетным, движением Юлии Борисовны было оттолкнуть шоколадки. Почему? Потому ли, что она заметила неловкость и тоже смущена и раздражена, или потому, что решила, будто угостили меня, а я ей отдаю?.. Я не выдерживаю и говорю ей нарочно погромче, на всю комнату:
– Меня тут приняли за пятилетнего малыша, и я вынужден вести себя соответствующим образом. Поздравлять вас шоколадками, которые мне для этого у вас на глазах сунули.
Таким образом, я показал, что хотя и вынужден, во избежание скандала, играть роль пятилетнего, самолюбие-то у меня сорокалетнее.
Через пять дней, когда мы с Некрасовой, как психотерапевтом, занимались психоанализом, я вернулся к этой продолжавшей меня мучить ситуации, нарочно в присутствии «провокатора», чтобы до него дошло хотя бы, в какое дурацкое положение он меня поставил. Я объяснил Юлии Борисовне, что меня не сама по себе эта неловкость занимает, а то, как вообще реагировать в подобных случаях. Она ответила, что, в общем, я поступил правильно, показав свой конфуз. Лучше реагировать правдиво, искренне, чем нагромождать взаимную фальшь. В то же время она подчеркнула, что ровным счетом ничего не заметила, что женщине вообще приятен сам факт поздравления, в какой бы неловкой форме это ни было сделано.
Ну, честно говоря, заверениям этим я не поверил, отнеся их за счет желания Некрасовой меня успокоить. Для себя же решил: если кто вздумает так же бесцеремонно при всем честном народе меня «воспитывать», надо дать очень резкий и очень короткий, как оглушительная оплеуха, отпор. В данном случае мне следовало все-таки молча оттолкнуть руку с шоколадками, а снова полез бы – грубо оборвать: «Отстань!» И больше не тратиться. Поставить на место – и поставить точку. Чтобы в следующий раз крепко подумал, прежде чем соваться с подсказками. Я взрослый человек и сам способен выбрать момент, когда и как поздравлять. В общем, в подобных случаях, видимо, не сдерживать раздражение, но и не размазывать его, а швырнуть в лицо обидчику плотным сгустком так, чтобы не я, а он переживал и гадал, что он такого сделал. А дальше, шмякнув этот сгусток раздражения, вести себя как ни в чем не бывало, ни в коем случае не кукситься. Ну а если мне действительно нужна подсказка, как поступить, я всегда сам, без малейших судорог «самолюбия», попрошу совета у тех, кому доверяю.
Почему все-таки возникают подобные неясные ситуации? Думается, недоучет моего «сорокалетнего самолюбия» связан со слепоглухотой, с очевидной (и преувеличиваемой) моей беспомощностью, нехваткой точного оперативного знания обстановки. Мне хотят помочь, но не всегда умеют сделать это необидно, тактично. Можно, конечно, тут же ответно обидеть. Нельзя молча сносить унижение. Жертвой оказаться хоть и не стыдно, но и ничего хорошего. Но затем, оставшись вдвоем, хорошо бы попытаться объясниться, подсказать, как лучше действовать в следующий раз, чтобы не вынуждать меня к отпору, чтобы не было взаимных обид.
Мы сами приучаем людей и к уважительному, и к неуважительному обращению с нами. Лучше, конечно, вести себя как-нибудь так, чтобы с нами обращались только уважительно, чтобы и в голову не приходило обращаться иначе. Но это требует весьма высокой собственной культуры поведения, а значит, очень точной, на уровне интуиции работающей рефлексии. Мне до этого идеала далеко…
Ну и о «других субъектах» – вопрос В. Э. Чудновского. В самом деле, куда я их дел в своей кандидатской диссертации? Почему невооруженным взглядом не видно их в моих текстах? И чем взгляд читателя «должен» быть вооружен, чтобы их увидеть?
«Другие субъекты», другие люди в моих текстах всегда есть, но я вынужден их зашифровывать. Главным образом во избежание лишней склоки, лишних обид, поскольку тексты у меня остропроблемные. Ильенков не раз, выслушивая мои монологи, огорченно замечал по поводу какого-нибудь небрежного обобщения: «Ну вот, походя опять обидел кучу людей». Клянусь, я нечаянно! Но ведь за «нечаянно» и бьют отчаянно… И Б. М. Бим-Бад, которому я несколько лет подряд читал, прежде чем перепечатывать по-зрячему, все свои рукописи вслух, вынужден был специально учить меня зашифровыванию тех, кто в бесчисленных конфликтных ситуациях ставил передо мной бесчисленные проблемы.
Не анализировать этих проблем нельзя, – их анализ может вооружить и меня, и других несчастных, перед кем эти проблемы встали, алгоритмом решения, знанием, как поступать. Но и те, с кем я «заморочился», из-за кого эти проблемы передо мной встали, кто вынудил меня к анализу, – эти люди в большинстве своем не так уж сильно провинились, чтобы срамить их упоминанием; или наоборот, провинились настолько сильно, что я не хочу создавать им хотя бы и отрицательную «рекламу», называя их имена.
Кроме того, мне свойственно шарахаться из крайности в крайность, либо перехваливая, либо чересчур яростно проклиная. Проблемный анализ конфликтной ситуации (или эйфории, увлеченности, первой влюбленности) производится мной обычно по горячим следам – тогда, когда горит, когда болит. Остыв, я начинаю стыдиться как чрезмерных похвал, так и чрезмерных проклятий, – похвал меньше, чем проклятий, а с некоторых пор и вовсе для себя решил, что перехвалить не стыдно, стыдно оказаться палачом.
К тому же особенно в студенческие годы и немного позже, иные «субъекты» прямо требовали, чтобы я не смел их упоминать в своих сочинениях, как бы то ни было, – ни в похвалу, ни в порицание. Когда же мне стукнуло за тридцать и я, по выражению одного знакомого (кстати, того самого провокатора с восьмимартовскими шоколадками), стал «очень выгодной фигурой», началась суета из-за приоритетов: кому я чем обязан, кого есть, а кого не за что благодарить; получалось так, что я должен благодарить лишь нынешних своих «отцов-благодетелей», а прежних оплевывать. Иногда я не выдерживал и уступал этому беспардонному нажиму, чего потом не мог себе простить и стыдился показаться на глаза оплеванному человеку.
Мне с работой бы поспевать,
Плодотворно детей любить…
Перестаньте меня терзать!
Прекратите меня делить!
Написать, поскорей издать,
Душу перед людьми излить…
Перестаньте меня терзать!
Прекратите меня делить!
А кому же отчет давать?
Кто же вправе руководить?..
Перестаньте меня терзать!
Прекратите меня делить!
Ничего не желаю знать.
Кем угодно согласен слыть:
Перестали б меня терзать,
Прекратили б меня делить.
(26 марта 1990)
Поэтому я решил для себя вообще поменьше называть имен, а уж если называть, то, как правило, в благодарность, в похвалу, а не в порицание, и обязательно по делу, а не специально, обязательно по поводу анализа той или иной проблемы, которую они мне помогли решить или осознать. И вообще, я, в конце концов, пишу для анализа проблем, а не ради составления церковного синодика, – не ради составления списка, кому ставить свечку за здравие, а кому за упокой. Пусть каждый читатель на место зашифрованных мной «субъектов» подставляет своих знакомых, с кем у него возникали похожие проблемы. С какой стати мне тыкать пальцем в своих обидчиков?.. Не говоря уже о том, что одни и те же люди могут выступать и в роли обидчиков, и в роли благодетелей; в жизни чаще всего бывает именно так.
В публицистике, в научном тексте главный «герой» – проблема, а не единичный решающий ее субъект. Другое дело – текст художественный: здесь люди по поводу проблем, а проблемы по поводу людей. Но и тут предпочтительнее зашифровывать знакомых, либо обращаясь к ним как бы с письмом, где имя заменяется личным местоимением второго лица («ты», «вы»), либо заменяя настоящее имя вымышленным. Как правило, шифр; как исключение – открытый текст, который требует исключительного такта. Если не уверен в своей тактичности, лучше прибегнуть к шифру, ибо нет ничего оскорбительнее для другого – и ничего стыднее для себя – публичного поношения. Потом, остыв, сам сгоришь со стыда, что превысил меру вины, обругал несправедливо. А мне и так уж перед многими стыдно – и живыми, и покойными. Особенно перед покойными, ибо тут уж ничего не поделаешь, не поправишь, не загладишь вины… Да и перед некоторыми живыми – тоже «особенно».
А чем объяснить, что «других субъектов» не видно не только в моих, но и в текстах О. И. Скороходовой? Вероятно, в какой-то степени уже названными причинами. У меня не было тесного доверительного контакта с Ольгой Ивановной, и мне трудно судить, насколько ее отношения с окружающими людьми были похожи на мои. Бесспорно, однако, что они не были бесконфликтными, но к своим конфликтам она относилась иначе, по-другому их переживала, – она была другим человеком, более замкнутым: близко знавшие ее люди говорили мне о ней как о великой скромнице. Не то что других – саму Скороходову в ее книге не очень-то видно. Есть ее «восприятия и представления», но нет ее самой как личности, и поэтому нет ее «понятий», хотя заключительная часть книги и называется «Как я понимаю окружающий мир».
В какой-то степени это наверняка объясняется исторической эпохой, в которую пришлось жить Скороходовой. Не могла не сказаться сталинская и вообще советская обезличка, безусловный приоритет «коллектива», спутанного с военным строем, над «личностью». Учитель Скороходовой, профессор Иван Афанасьевич Соколянский, подвергался репрессиям, и его мог пугать любой пристальный взгляд, любое, хотя бы и доброжелательное, и благодарное внимание к его «персоне». Само слово «персона» тогда употреблялось не иначе как в уничижительном контексте, – даже у Э. В. Ильенкова, одного из создателей действительно марксистской философско-психологической теории личности. Так что Скороходова могла «стесняться» «выпячивать» свою «персону». Я не стеснялся никогда, хоть Ильенков и журил меня за это, и потому в моих текстах если и плохо видно других, то уж меня-то самого видно наверняка отчетливо. Пусть даже чересчур отчетливо. Ничего. После советской обезлички этим маслом каши не испортишь.
Ну и в какой-то степени наверняка тут виновата слепоглухота. Мы лишены физической возможности наблюдать «со стороны», что и как делают «другие». «Другой» для нас существует только тогда, когда мы к нему прикасаемся. Откуда нам знать, какие разговоры о нас в нашем же присутствии ведутся, если переводчики дисциплинированно соблюдают запрет переводить нам эти разговоры?.. О таких запретах мне иногда говорили – вынуждены были говорить, ибо я требовал ответа, почему переводчик молчит. Не каждый сумеет в одну секунду придумать, как правдоподобнее соврать, вот и признавались, что переводить запрещено, да нередко «ничего такого» и не видели в таких запретах.
В общем, если кому не нравится, что в текстах слепоглухого плохо видно кого-то еще, кроме самого слепоглухого, то счет следовало бы предъявить, может быть, даже в первую очередь тем, кого «плохо видно». Они вправе не желать, чтобы их было видно лучше.
И они, хотя и не вправе по-человечески, но могут разрешить себе, надеясь, что не будут разоблачены, «немножечко» попользоваться нашей слепоглухотой, ввести, разумеется желаючи нам добра, некую цензуру, некую дозировку информации. Как это очень часто позволяют себе вообще взрослые по отношению к детям, а правительства – даже самые «демократические» – по отношению к народам. Да еще, что, наверное, особенно «тактично», о пределах дозировки информации договариваются в нашем же присутствии! Мы же не услышим и не узнаем… Один «другой субъект», между прочим, тот же самый, который отвесил мне сомнительный комплимент насчет моей чрезвычайной «выгодности», настойчиво объяснял мне, что меня очень легко обмануть. Через несколько лет у меня накопилось достаточно причин задуматься, не пользуется ли он первый этой легкостью, равно как и моей «выгодностью». Это к вопросу о тех «других субъектах», которых я называю кукловодами…
Вот и заполнилась своего рода «анкета». Научную тему сформулировать легко: речь идет о том, как работают – и какие именно – механизмы общения в условиях слепоглухоты. Есть у Ильенкова статья «Думать, мыслить…» – один из вариантов знаменитой работы «Школа должна учить мыслить!». Тут, пожалуй, подсказка.
Зрячеслышащие, общаясь, всматриваются и вслушиваются. На этой чувственной основе вдумываются. Главное в общении, кто бы ни общался, – вдумываться в себя и в других. За бездумное порхание приходится расплачиваться более или менее жестоко. Можно общаться уверенно, непринужденно, но это вовсе не значит – бездумно. Просто накопился достаточный опыт, в общем и целом «накаталась колея», по которой и катится наше повседневное общение.
Мне трудно общаться потому, что я никогда не доверял колеям, особенно если они накатаны кем-то – не мной. Я всегда ревизовал и продолжаю ревизовать колеи. И особенно я недоверчив к тем колеям, которым доверяются «все». Я всегда добивался рационального объяснения, почему я должен вести себя, «как все», и кто такие эти «все». Аргумент: «все так делают, и ты так делай», – для меня всегда был тем же самым, чем является красная тряпка для быка.
Но я не вижу лиц. Не слышу голосов, а если даже и слышу через слуховой аппарат – не понимаю жужжащих вокруг меня разговоров. Как же мне ориентироваться в общении с людьми, если отвергаю накатанные колеи, вернее, недоверчиво осторожен с этими колеями?
А колеи мне очень нужны. Такие, в которых я был бы уверен. Без них общение, особенно с самыми близкими, любимыми, изматывает. Любой пустяк оборачивается проблемой. Не зная, как объяснить мотивы поведения окружающих, не доверяя ходячим объяснениям, дохожу до настоящей мнительности, подозреваю нечто чрезвычайно сложное там, где всего лишь пень да колода, то есть человек действует через пень-колоду, как черт на душу положит, как придется, по привычке или по случайному импульсу, а я над этим ломаю многомудрую голову.
Я на всю жизнь остался ребенком в том смысле, что хочу быть хорошим и хочу понять, что значит быть хорошим. Значит ли это «быть как все»? Да, если все лучше меня. А они лучше ли? И чем именно лучше? А вдруг, рекомендуя «быть как все», мне рекомендуют сходить с ума за компанию со «всеми»? Нет, я так не играю. Предпочитаю быть не «как все», а как я – быть самим собой, быть искренним. Но боже мой, до чего же это трудно… Это вообще трудно, и подавно – при слепоглухоте.
Очень выручает художественная литература. Она помогает компенсировать слепоглухоту, ориентироваться в том, чего физически не могу ни видеть, ни слышать. Я никогда не стеснялся сравнивать себя с самыми лучшими. Хоть с Пушкиным, хоть с самим господом богом. И, разумеется, всегда сравнивал с литературными персонажами своих знакомых. Детская художественная литература помогает мне понимать детей, компенсируя невозможность их физически наблюдать.
Слепоглухота вообще много чего не позволяет. Не позволяет полноценно (а то и никак) видеть и слышать. Если слепоглухота ранняя и тем более врожденная, то не позволяет говорить голосом, а то и как бы то ни было. Не позволяет общаться – совсем или сколько-нибудь полноценно. На любом уровне развития личности, даже на относительно высоком, проблемы общения крайне остры. Непосильно остры. Даже человек с более-менее разборчивой речью, безукоризненно грамотный, начитанный страдает от недостатка общения, сетует на него, не знает, кого и винить в своем одиночестве – больше себя или больше окружающих. И срывается в назойливость, в требование внимания, упорно лезет, пристает ко всем без разбора, без учета ситуации, с отчаяния не допуская и мысли, что людям может быть просто некогда. Такое назойливое поведение среди слепоглухих довольно-таки распространено.
Я стесняюсь приставать, надоедать. Я твердо усвоил, что насильно мил не будешь. Круг моего постоянного общения все же меньше, чем мне бы хотелось. И качество общения оставляет желать много лучшего, особенно в смысле непринужденности. Но я с детства привык общаться опосредствованно – прежде всего, привык читать круглые сутки. Эта привычка меня здорово выручает. Мне не скучно одному. Я читаю, сам пишу, слушаю музыку, насколько позволяет остаточный слух и звукоусиливающая аппаратура. И поэтому могу быть по-настоящему интересен хоть некоторым людям. Избегаю к ним приставать, стараюсь, чтобы они общались со мной в охотку. Из страха надоесть, прискучить – налицо даже некоторый недостаток инициативности в общении. Лучше меньше, да лучше. Лучше реже, но хоть сколько-нибудь регулярно и в течение долгих лет. Лучше общаться содержательно, по делу, творчески, чем «балдеть просто так». «Балдеть» не умею и терпеть не могу, – тягостно, скучно.
В общем, слепоглухота предъявляет крайне жесткий выбор: или научиться жить полноценной творческой, напряженной духовной жизнью, компенсируя недостаток «живого» общения через книги и результаты собственного творчества, – либо так и мучиться своей ненужностью, неинтересностью, обвиняя в равнодушии, бессердечности весь мир. Третьего слепоглухота не дает.
Либо научиться общаться с миром в творческом уединении, и благодаря этому умению в конце концов заинтересовать собой окружающих, получив возможность полноценного, пусть недостаточного количественно, общения с живыми людьми, – либо так и остаться одиноким, никому не интересным и не нужным. Либо стать равноправным субъектом общения – либо остаться объектом более-менее презрительного, более-менее брезгливого «милосердия».
Вчувствоваться, вдуматься – и обрести себя, друзей, весь мир. Порхать, развлекаться, бездумно существовать – и, не став теоретиком собственной жизни, собственного общения, остаться скорее животным, чем человеком. Или – или.