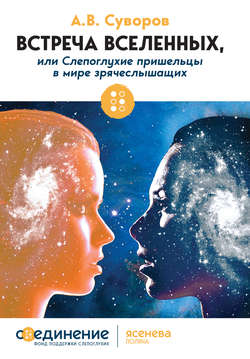Читать книгу Встреча Вселенных, или Слепоглухие пришельцы в мире зрячеслышащих - А. В. Суворов - Страница 15
Часть вторая
Истоки человеческого
2.2. Очеловечивание, то есть формирование человеческой психики
ОглавлениеВ понятии очеловечивания нет ничего «кощунственного», оскорбительного, шокирующего. Раз понято и принято, что мы не рождаемся, а становимся людьми, что формировать приходится даже психику вообще, в ее зоологической, животной форме, то тем более подлежит прижизненному формированию специфически человеческая психика, отличающаяся от животной «орудийностью в расширительном смысле». И что же это, если не очеловечивание – стихийное или целенаправленное? Как иначе это назвать?
В вопросе о прижизненности и, более того, стопроцентной социальности всего человеческого в человеке Э. В. Ильенков бескомпромиссно категоричен.
«…Все специально человеческие формы психики (на все 100 %…) определены чисто социально, и ни на один процент не определены биологически, со стороны врожденных структур мозга и тела особи вида „гомо сапиенс”. Конечно, такое внешнее условие, как медицински-нормальный мозг, должно присутствовать. Нет этого условия – не будет и никакой психики, ни человеческой, ни даже животной. Не будет того материала, из коего человеческая – то есть социально-исторически возникшая – жизнедеятельность делает орган человеческой психики, преобразует орган управления процессами, протекающими внутри тела, – в орган управления сначала движением этого тела во внешнем пространстве, а затем и управления всеми теми вещами и процессами, которые совершаются вне тела человека… то есть человека, понимаемого не как биологический вид, а как родовое существо, как род по отношению к любому другому виду, как универсальное существо, как совокупность всех общественных отношений».[19]
Мещеряков также подчеркивает, что вся человеческая психика – результат активного практического взаимодействия индивида с другими индивидами в условиях среды, созданной человеческим трудом. Строится оно в ходе совместно-разделенного предметного действия – в частности в продолжении работы с уже описанной нами ложкой.
«Нину стали приучать к твердой пище, и постепенно она научилась откусывать и жевать твердую пищу. В руку ей стали давать ложку. Ложку она не держала, поэтому воспитатель держал ее руку на ложке и ее рукой подносил ложку ко рту. Так Нина научилась держать ложку своей рукой и стала делать попытки нести ее ко рту. Чаще всего ложка не находила рта, но, как только ложка касалась лица, Нина правильно передвигала ее ко рту и правильно опрокидывала пищу в рот. Постепенно она научилась откусывать хлеб (первое время хлеб ей крошили в суп)… Как видим, с самого начала у Нины не были сформированы или были угашены сформированные во младенчестве важные органические потребности: в пище, в движении… в общении. Пищевая потребность была угашена ненормальным процессом кормления, потребность в активности нашла свое удовлетворение в стереотипных… движениях туловища, потребность в общении не развилась или была угашена неправильными, непонятными для ребенка резкими прикосновениями и движениями при обслуживании его».[20]
Фактически первая стадия очеловечивания заключается в приучении к необходимым движениям, в руководстве (это слово приходится понимать вполне буквально, в его первозданном смысле, «руководить, рукой водить»), но без принуждения, и во внимательности к малейшему проявлению самостоятельности. Ильенков отмечал: «Как только такой намек появился, сразу же ослабляй, педагог, руководящее усилие. И продолжай его ослаблять ровно в той мере, в какой усиливается активность руки малыша! В этом первая заповедь педагогики „первоначального очеловечивания”, имеющая принципиальное значение и – что не трудно понять – не только для воспитания слепоглухонемого».[21]
Это, кстати, касается не только детей, но и взрослых инвалидов, чья активность нередко гасится обслуживающими более здоровыми нетерпеливыми людьми, которым «удобнее» все для инвалида делать вместо инвалида, а не вместе с ним, тщательнейшим образом подстраиваясь под собственные темпы инвалида, чтобы он успевал сориентироваться.
Таким образом, эти первые шаги по развитию самостоятельной активности должны быть в дальнейшем подкреплены формированием понятия режима дня и устойчивых навыков самообслуживания. Как отмечал Мещеряков:
«Когда ребенок появляется на свет, он попадает в очеловеченную среду. Пространство вокруг него заполнено предметами, сделанными людьми: это и дом, в котором родился и живет ребенок, и кроватка, в которой он на первых порах находится большую часть времени, и одежда, и все многочисленные предметы ухода за ребенком, предметы быта, труда, за которыми закреплены выработанные человечеством функции и способы действия. Они создают вокруг ребенка очеловеченное пространство. Но объективизация человеческих способностей в истории человечества происходила не только в создании материальных предметов, но и в разработке правил поведения, распорядка жизни. Так что кроме очеловеченного пространства так же объективно, то есть. независимо от ребенка, существует еще и очеловеченное время, режим – в широком смысле этого слова, распорядок жизни, предопределяющий, что и когда делать ребенку в течение суток, недель и т. д. Очеловеченное пространство и очеловеченное время – вся очеловеченная среда реализуется для ребенка поначалу в определенных действиях других людей, направленных на его обслуживание. Таковы факторы очеловеченной и очеловечивающей ребенка среды, в которую он попадает, появившись на свет».[22]
В своей книге он рассказывает об этом на примере все той же Риты Л. Дома у девочки не воспитали никаких навыков самообслуживания. Первое время она совершенно не могла быть одна, плакала и, как только чувствовала, что к ней кто-то из взрослых подходит и дотрагивается, тянулась на руки. Ни к какому режиму девочка совершенно не была приучена. Для нее не существовало смены дня и ночи. Рита не употребляла ни одного жеста. Единственным знаком требования внимания к себе был крик. Им она пользовалась часто.
Первое, с чего началось воспитание Риты в детском доме, – это приучение ее к режиму. Девочка сопротивлялась новому для нее распорядку. Не хотела ложиться спать в тихий час, вставала, плакала, выбрасывала из кровати подушки, одеяло. Воспитательница, взяв в свои руки ручки Риты, подводила ее к кроваткам других детей, показывала ей, что дети разделись и легли спать, и делала руками девочки жест «спать». Если утром девочка вовремя не просыпалась, осторожным прикосновением ее будили, в строго определенное время кормили, одевали, водили гулять, укладывали спать. Тщательные наблюдения показали, в какое время ребенка целесообразно высаживать на горшок. Дома у нее не могли выработать привычки к опрятности, часто сажали на горшок уже после того, как штаны были мокрые, подолгу держали на горшке. Это было не только бесполезно, но и вредно для ребенка. У Риты выработалось стойкое отвращение к этой процедуре. В детском доме ее стали сажать на горшок в строго определенное время и ненадолго. Специально следили, чтобы горшок не был холодным. Вскоре она перестала сопротивляться.
За первые четыре месяца Рита привыкла к режиму. Перестала кричать, сопротивляться и выполняла все режимные моменты, как должное, а многие и с видимым удовольствием. В умывальную шла спокойно, сама подставляла руки под струю воды, научилась делать первые движения при умывании – терла ладошкой о ладошку, самостоятельно несла мыло и полотенце как в умывальную, так и из умывальной в групповую комнату. Правильно вытирать полотенцем лицо и руки еще не научилась, но уже видно было, что и этими навыками она вскоре овладеет.
(Даже меня, почти взрослого, Александру Ивановичу однажды пришлось учить этой премудрости. Я был у него в гостях, помыл руки перед обедом, а полотенце скомкал и этим комом пытался вытереть руки. Хотел побыстрее, но руки оставались мокрыми. Александр Иванович под моими руками расправил полотенце, повесил его на мои вытянутые кисти и показал, как надо вытираться расправленным полотенцем. С тех пор я больше полотенце не комкал. – А. С.)
Как только одевать и раздевать Риту воспитатели стали медленнее, поощряя малейшие ее самостоятельные движения, активность девочки начала расти изо дня в день. Она сразу же научилась поднимать руки, когда с нее снимали кофточку, поднимала ногу, когда надевали чулок. Педагог, взяв руки девочки в свои, учила ее надевать и снимать чулки, все время давая возможность попробовать самостоятельно. Сначала Рита научилась снимать ботинки, предварительно расшнурованные педагогом, и отстегнутые чулки. Потом научилась расстегивать пуговицы на кофте и платье. А через четыре месяца после поступления в детский дом, готовясь ко сну, она уже самостоятельно снимала платье, обувь, штаны, чулки (правда, отстегивать их еще не умела). Снятую одежду, которую девочка сначала бросала на пол, теперь пыталась повесить на спинку стула. Научилась Рита и более сложным навыкам – надевать платье, кофту, штаны, ботинки; расшнуровывать, зашнуровывать и завязывать шнурки еще не умела, так же, как и застегивать пуговицы. Во время подготовки к прогулке пыталась сама надеть пальто, шапку.
Более того, постепенно Риту научили самостоятельно подниматься и спускаться по ступенькам лестницы. Сначала она по лестнице могла передвигаться только за руку с педагогом, потом научилась подниматься по лестнице вверх, держась за перила. Труднее оказалось спускаться по лестнице, но к четвертому месяцу обучения девочка овладела и этим умением.
(Зависит, конечно, и от диагноза, а не только от навыка… Мне с моим постоянным, с возрастом нарастающим головокружением всегда труднее было спускаться, чем подниматься. То же касается и чувствительности ног. Уже младшему научному сотруднику, мне в детдоме учительница физкультуры рассказала о мальчике, который на уроках все время терял лыжню и звал на помощь учительницу, – а ей надо было и за другими учениками следить. Она спросила, как бы я учительнице посоветовал поступить. Я уточнил:
– А может, у этого мальчика плохая чувствительность ног? Вы не проверяли? Меня проверили в прошлом году, и оказалась пониженная чувствительность… Поэтому и походка неуверенная – плохо чувствую дорогу под ногами.
– Да я тебе про тебя же и рассказывала! – смутилась учительница. – А. С.).
На следующем этапе началось формирование у ребенка стремления к подражанию. Риту Л. специально обучали наблюдать то, что делают взрослые и дети. Ее подводили к детям и показывали, как они раздеваются, ложатся спать. Воспитательница вместе с Ритой брала одежду, обувь, подставляла стул к столу и т. д. Создавались условия, чтобы девочка могла наблюдать, как взрослые одеваются, раздеваются, метут пол, стирают, гладят и т. д. Постепенно круг действий, которые наблюдала Рита сначала вместе с педагогом, а потом и самостоятельно, лишь направляемая им, расширялся. Девочка научилась ориентироваться в комнате, потом и в коридоре, освоила дорогу в умывальную, в столовую, научилась выходить и во двор на прогулку. После того как воспитательница организовала наблюдение за процессом подметания пола, Рита отыскала веник и попыталась подметать сама. Дальше обучение ее навыкам уже сводилось к организации наблюдения за тем, что делали другие дети, с последующей коррекцией ее движений.
За подражанием наступил этап обучения жестам-сигналам. Перед тем как вместе с Ритой приступить к выполнению какого-либо действия, педагог с самого начала показывал девочке ее же руками жест, обозначающий предстоящее действие. Например, перед тем как надевать чулок, ее рукой проводилась как бы черта по ноге Риты от ступни к колену, и только после этого чулок надевался. Вначале девочка эти жесты никак не воспринимала, подлинным же сигналом к одеванию для нее было то, что на ее ступню педагог надевал чулок; сначала чулок натягивали совместными усилиями взрослого и ребенка, а потом девочка делала это самостоятельно.
Постепенно Рита стала понимать простые жесты, обозначающие много раз повторяющиеся действия по ее обслуживанию. К концу четвертого месяца обучения девочка хорошо понимала жесты, связанные с раздеванием и одеванием (надеть-снять чулок, кофточку, штаны, обувь), едой, умыванием. В общении Рита их еще не употребляла – для нее это было еще рано, – но понимала. Восприняв, например, жест «умываться», она брала мыло и полотенце и направлялась в умывальную, получив жест «есть», доставала передник, чтобы ей его подвязали, и направлялась в столовую.
При чтении книги А. И. Мещерякова у меня создается впечатление, что этот человек знал про слепоглухоту все. Он как-то изнутри о ней пишет. Обычно сетуют на то, что зрячеслышащие не могут до конца представить себя на месте слепоглухих. Но у Мещерякова и теоретические схемы прямо-таки исчерпывающие. За ними громадный практический материал.
Пересказывать Мещерякова – значит обеднять его. Пусть говорит сам:
«Нормально видящий и слышащий ребенок, взаимодействуя с… факторами очеловеченной среды, очеловечивается, то есть. формирует свою человеческую психику в естественном процессе жизни, привычно и поэтому незаметно для окружающих… Еще до начала специального обучения слепоглухонемого ребенка взрослый, ухаживая за ним, удовлетворяет его органические нужды способами, выработанными человечеством: по определенному режиму кормит ребенка, одевает его, укладывает спать и т. д… Уже на этом этапе закладываются первые элементы человеческой психики. Они возникают потому, что нужды ребенка удовлетворяются человеческими предметами (одежда, предметы ухода, бытовые вещи) и человеческими способами (кормление, одевание, туалет). Происходит важнейшее событие в жизни ребенка: его органические нужды, обретая человеческий предмет и человеческий способ удовлетворения, становятся человеческими потребностями… Возникает орудийное удовлетворение потребностей (ребенок ест ложкой, а не ложку)… Выработанный обществом способ действия и составляет общественное значение, заключающееся в вещи. Таким образом, между субъектом (ребенком) и предметом его потребности вклинивается вещь (орудие) со скрытым в ней общественным значением. Это-то и есть решающее обстоятельство в очеловечивании ребенка. Овладевая вещью, то есть. обучаясь посредством ее удовлетворять свои потребности, ребенок усваивает (и присваивает) общественное значение, превращая его в свой личностный смысл».[23]
В итоге органические нужды превращаются в человеческие потребности, опредмечиваются в действиях. Э. В. Ильенков этот пример тоже приводит:
«Предположим, мы с вами, собравшись в тесной комнате, надышали бы так, что, как говорится, уже дышать стало нечем. Исчерпали кислород. В комнате стало невыносимо душно. Как среагирует на этот факт наша биология, ее врожденные механизмы? Учащением сердцебиения, учащением дыхания, попыткой поскорее убраться из комнаты в какое-то другое пространство, на „свежий воздух”. Это и делает любое животное. А что делаем мы? Подходим к окну и открываем форточку. Или включаем вентиляцию. И этот способ реагирования на условия среды никак не был и не мог быть записан ни в самой по себе внешней среде, ни в нашей физиологии. Он записан только в устройстве форточки и вентиляции».[24]
Все виды деятельности, совершаемой ребенком для удовлетворения своих потребностей, строятся из выработанных человечеством действий, операций, приемов. Они – двигательные, ориентировочные, подражательные, осуществляемые совместно со взрослым, – усваиваются ребенком, а затем рождают новые потребности. Они являются условиями принятия ребенком задачи, направленной на обучение новым формам деятельности: игровой, познавательной, подражательной, деятельности общения, как отмечал Мещеряков.[25]
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
19
Ильенков Э. В. Школа должна… С. 102–105.
20
Мещеряков А. И. Указ. соч. С. 89.
21
Ильенков Э. В. Становление личности… С. 75.
22
Мещеряков А. И. Указ. соч. С. 298.
23
Мещеряков А. И. Указ. соч. С. 298–300.
24
Ильенков Э. В. Школа должна… С. 102.
25
Мещеряков А. И. Указ. соч. С. 301–303.