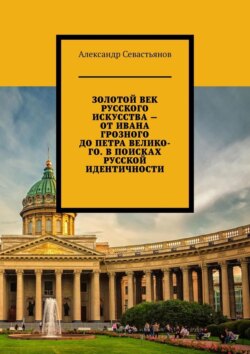Читать книгу Золотой век русского искусства – от Ивана Грозного до Петра Великого. В поисках русской идентичности - Александр Никитич Севастьянов - Страница 10
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Отход от византийских традиций
ОглавлениеРадикально разойдясь в XII—XIII вв. с Западной Европой в вере и культуре, Ордынская Русь постепенно стала расходиться и с Византийской империей как в деталях вероисповедания и мировоззрения, так и в эстетике. Трансформируясь в условиях татарского ига и изоляции, русский народ отказывался как от европейской, так и от византийской идентичности, пестуя свою собственную, основанную как на домонгольских, так и на постмонгольских архетипах. Только, если разминовение с Европой вышло стремительным в результате пленения Руси, то дрейф в сторону от Византии занял века.
Раннее христианское искусство (а именно оно легло в основу древнерусского) было на Руси поначалу все исключительно импортным, византийским. В частности, еще князем Владимиром из Корсуни-Херсонеса были привезены иконы и святыни. Но до нас не дошла вообще ни одна икона этого периода: ни из Киева, ни из Чернигова, Перяславля, Смоленска и других городов, где частично сохранились только настенные росписи, по которым мы сегодня судим о характере живописи того времени. Эти росписи также имеют византийское происхождение. К примеру, первая каменная церковь – Десятинная – была построена в Киеве после 988 года византийцами, осуществлявшими не только архитектурный проект, но также мозаики и фрески. Византийцы же построили и Софийский собор в Киеве (1011—1018), и Успенский собор в Киево-Печерском монастыре (1073—1089) и др.
Греки работали не только в Киевском княжестве, но и в Новгороде, Пскове, Старой Ладоге и т. д. Даже когда политический центр тяжести переместился из Киева во Владимиро-Суздальское княжество, лучших византийских иконописцев продолжали приглашать на Русь, и традиция, таким образом, сохранялась во всей силе. Правда, постепенно на русской почве возникали некоторые незначительные частные особенности, связанные с местными эстетическими и иными традициями (например, уже в XI веке в орнаменте книжных миниатюр, в росписи Софийского собора). Но в целом основной стиль византийского искусства первой половины XI века – т.н. «аскетический стиль» – всецело господствовал в то время (примеры: мозаика Архидиакон Лаврентий в Софийском соборе, иконы Богоматерь Одигитрия и св. Георгий, книжные миниатюры).
Имена двоих первых русских иконописцев, Алипия (ум. ок. 1114 г.) и Григория дошли до нас, но сколько их было в действительности, судить трудно, ибо от всего домонгольского периода сохранилось очень мало икон, причем отделить византийское письмо от русского практически невозможно. Характерным считается образ «Спас Златые власы» (XIII в., Кремль, Успенский собор), которого В. Н. Лазарев определял как русское провинциальное подражание византийским образцам91. Или, в еще большей мере, «Спас Вседержитель» из села Гавшинки (XIII в., Музей им. А. Рублева).
Несмотря на то, что русские ученики из иконописной школы Киево-Печерского монастыря уже в конце XI века работают наряду с константинопольскими мастерами, византийский стиль долго остается преобладающим на Руси. Вместе с ним в иконографии утверждается и преобладающий типаж – греческий или семитский по своим антропологическим характеристикам.
В самой Византии происходили эстетические подвижки, один стиль сменялся другим – и все это немедленно находило отражение в русской иконе, поскольку лучшие образцы импортировались на Русь. В частности, в конце XII в. на смену «аскетическому» приходит т.н. «комниновский» стиль (лики становятся более вытянутыми, а глаза менее широкими), классическим образцом которого считается знаменитая икона «Божья матерь Владимирская». Затем возникает т.н. «стиль около 1200 года»; на смену ему – «Палеологовский ренессанс» (1 четв. XIV в.) и т. д. Стилистические вариации сопровождали и выражали зачастую напряженные богословские дискуссии, как, например, спор «о Фаворском свете» и учение об исихазме Григория Паламы (сер. XIV в.), чрезвычайно важные в контексте эпохи. Тезисы этих споров своевременно отражались в греческой – и, соответственно, русской иконописи92. Но зависимость русского искусства, его заемный характер от этого нисколько не меняются.
Это отнюдь не бросает тени на отечественное сословие живописцев. Обаяние византийской иконы было чрезвычайно велико в мире, его прямое влияние бывало одинаково сильным как на православном Востоке, так и на католическом Западе: достаточно сравнить Белозерскую икону Богоматери (XIII в., ГРМ) с флорентийскими иконами того же времени (например, две такие иконы можно увидеть в ГМИИ им. А. С. Пушкина), чтобы убедиться: они созданы в традициях одной школы. Об этом много написано в специальной литературе93. Немало известно и о работе византийцев или их учеников над венецианскими, сицилийскими, равеннскими, флорентийскими и др. мозаиками (в то время и фрески, и мозаики также именовались по-гречески «иконами». )
Считаю необходимым лишний раз подчеркнуть здесь одну важнейшую особенность иконографии того времени. Несмотря на то, что вселенский характер христианства предполагает отвлечение от реальной национальности действующих лиц, но, как уже говорилось не раз выше, в условиях заимствования любой религии одним народом от другого со временем неизбежно происходит ее «национализация». Поскольку этничность (биологическое происхождение), будучи исходной, первичной характеристикой народа, непременно пробивает себе путь наружу через напластования заимствований и проявляется как во внешнем виде, так и во внутренней сущности религиозного учения. Так было и с православием на Руси.
Отчетливо нерусские – греческие или семитские – по своей типажности лики в русских церквах, на русских иконах, фресках и мозаиках создавали своеобразную этнокультурную доминанту в жизни славянских племен, которым еще только предстояло стать русским народом. Огромные черные глаза с поволокой, смуглые лики, носы с горбинкою, черные усы, бороды и кудри, иногда позлащеные94 – святые персонажи должны были производить на преимущественно светловолосое и светлоглазое (за исключением домонгольской Киевщины) население впечатление отчетливой инаковости, сакральной иномирности, экзотичности, отчужденности. Придя в храм, русский человек оглядывался вокруг себя и видел изображения не «своих», а только этнически «чужих», которым он должен был поклоняться и молиться, испытывая – пусть даже бессознательно – двойственное чувство. Что говорить, если даже первые русские святые Борис и Глеб изображены на ранней иконе характерного византийского письма (XIII в., Музей русского иск-ва в Киеве) в виде лиц яркой восточной наружности. Отчасти это может объясняться национальным происхождением их матери – не то ромейки, не то болгарки, но общественный эффект от этого не меняется.
Преодоление такого эффекта, приближение и приспособление изобразительного православия к местной русско-славянской аудитории займет не одно столетие и вполне проявится уже только в XV веке, что симптоматично. Русское национальное чувство потребует применения христианской вселенской религии, зародившейся в Иудее и пышно расцветшей в Византии, к местному господствующему антропологическому типу. Произойдет обрусение христианства, адаптация к местной среде, к автохтонам Московской Руси.
В отдельных произведениях местных школ эта тенденция пробивалась, безусловно, и раньше. Таков, к примеру, «Ярославский Спас» (сер. XIII в., Ярославский худ. Музей), происходящий из ярославского Успенского собора и написанный для местных князей, о котором академик В. Н. Лазарев писал, что лик на иконе подкупает «выражением какой-то особой интимности» и при этом имеет типично русские черты95. Постепенно меняется антропологический тип библейских персонажей, русская (славянская) типажность приходит на смену семитской и греческой. Любопытно, что те же Борис и Глеб, конные, изображенные на широко известной большой иконе из Успенского собора в Кремле, созданной в конце XIV века псковскими, по новейшему мнению, иконописцами (ГТГ), уже имеют вполне русский облик, лишенный черных очей, бровей, волос, усов и бород. Такую же метаморфозу обрусения князей-страстотерпцев мы видим и на большой иконе ростово-суздальского письма XV в. (ГТГ). И т. п.
О значении подобной метаморфозы в свое время очень наблюдательно высказался философ Евгений Трубецкой, находя, что в такого рода иконах «просвечивает одухотворенный народно-русский облик. Не только общечеловеческое, но и национальное таким образом вводится в недвижный покой Творца и сохраняется в прославленном виде на этой предельной высоте религиозного творчества»96.
(Подчеркну в скобках, что подобная адаптация происходила не только в нашем отечестве и не только с русскими. Характерный пример дает тосканская школа живописи, где уже в эпоху Джотто (1266—1337), и в особенности в его творчестве, в иконописи утверждается господствующий местный антропологический типаж с яркими признаками монголоидности – наследие гуннов, оставленное в местном генотипе. Специфический узкий разрез глаз тосканских «примитивов» просто бросается в глаза, интригует, но сегодня лишь немногие понимают происхождение этой важной и очень реалистической детали. Ничего подобного не было, скажем, на юге Апеннинского полуострова или в Сицилии, которые в условиях запустения бывшей Римской империи заселялись в раннем средневековье преимущественно сирийскими семитами97.)
Татаро-моногольское нашествие нарушило естественное развитие русской культуры в общем и целом, но церковная живопись продолжала существовать, хотя потери, утраты поистине безмерны. В связи с физической гибелью творческих кадров, исчезновением сотен храмов вместе со всей утварью, обеднением технологий и материалов, нарушением, усложнением сношений с Византией и т. д. стал заметен определенный регресс в иконописи. Спрос на икону оставался высоким, но русским художникам все чаще приходилось идти по пути самодеятельности, высокая византийская школа стала для многих недоступна, технические приемы письма стали примитивнее, проще, уровень мастерства в массе понизился. Изображение порой становится плоским, цветовая гамма беднеет. Из икон уходит гармония, соразмерность пропорций, величественность и плавность, свойственные византийским произведениям. Зато нарастает присутствие национального элемента.
Это видно в наследии новгородской школы, куда не докатилось татарское разорение; примером может служить великолепная икона «Никола Липный» (1294, мастер Алекса Петров, Новгородский музей98). Созданная богатым воображением, к тому же огромная по размеру, со множеством фигур и полуфигур, окружающих святого, вся в красивых орнаментах, несвойственных греческой традиции, светлая (!), гармоничная и разнообразная по сочетанию красок, она радует глаз и производит необыкновенно утешительное впечатление. По мнению академика Лазарева, здесь «святой утратил суровость фанатичного отца церкви. Перед нами добрый русский святитель, готовый оказать наиреальнейшую помощь своему подопечному»99. Примечательно, что среди фигурок по бордюрам – первые русские святые Борис и Глеб. В целом образ дал искусствоведу и богослову Ирине Языковой возможность утверждать, что «к концу домонгольского периода в иконописном языке обретается самостоятельность». Я бы поправил: к концу XIII века (т.е. уже при монголах) самостоятельность только «намечается», ибо «обретается» она в полной мере гораздо позже.
Псковская школа иконописи начинается в XII в. с работ греческих мастеров, которых новгородский архиепископ Нифонт, родом грек, привез расписывать фресками Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. Но в связи с татарским нашествием в греко-русских сношениях наступает некоторый перерыв. А в XIV—XV веках главным духовным центром Пскова становится Снетогорский монастырь, в котором возводится один из первых после нашествия татар каменный храм, что способствовало развитию собственной, местной своеобразной школы живописи. О которой специалист пишет так: «Псковская иконопись имеет свое ярко выраженное лицо… Художественный язык псковской иконы предельно экспрессивен. Этим он в корне отличен от гармоничного, уравновешенного языка московской иконы. Пожалуй, из всех древнерусских иконописных школ псковская была наиболее демократичной по духу и наиболее непосредственной и импульсивной по формам выражения»100. Концом XIII – началом XIV вв. датируется псковский образ «Илия Пророк в пустыне с житием и деисусом», в котором прослеживется как византийский (лики святых восточного типа в клеймах поверху), так и русский (лик самого пророка) импульс.
Одной из главных на Руси становится иконописная мастерская при епископском дворе в Ростове Великом, откуда живописные произведения расходились по всему Русскому Северу. Ростов, как и Владимир, находился под неусыпным татарским контролем, связи с Ордой были обильны и многообразны. В данной связи интересно отметить появление восточных мотивов в некоторых иконах этой школы. Так, «Архангел Михаил» (ок. 1299—1300, ГТГ) демонстрирует одеяния, чей орнамент однозначно ассоциируется с восточным ковроткачеством.
Возникают и другие независимые иконописные центры: Тверь, Суздаль и т. д. Потребность русских иконописцев найти свой, национальный язык живописи была весьма велика.
В начале XIV века связи с Византией понемногу восстанавливаются; во второй четверти столетия в Новгороде, к примеру, уже работают целые группы греческих художников, оформляющих иконостас Софийского собора и имеющих русских учеников.
Но душевная тональность живописи уже заметно изменилась. Наиболее ярким памятником этого времени можно считать знаменитый образ «Спас Ярое око» (вторая четверть – середина XIV в, Успенский собор в Кремле). Он поражает своим грозным, недобрым, брутальным обликом, напряженным выражением; он сверлит предстоящего строгим взглядом, словно обличает человека в грехах, тайных и явных, понуждает его к смирению и покаянию, грозит Страшным судом. Возможно, автором был грек (сам сюжет константинопольского происхождения), но возможно – перед нами выдающееся произведение даровитого русского мастера, слышащего боль своего века, настолько изображение пришлось к месту и ко времени в Ордынской Руси, стонущей и мятущейся под жестоким игом. Не случайно данный сюжет стал весьма популярен у современников: при общем крайне малом количестве сохранившихся икон известно еще как минимум два «Ярых ока» XIV века. Страшное, ярое время породило этот образ.
Вообще, конец XIII – первая половина XIV вв. в русской иконописи отмечены стилем, который можно охарактеризовать как суровый. Что, конечно, неудивительно в том историческом контексте, в котором они созданы. Строгие лики Христа, святых созвучны своей эпохе. Помимо вышеприведенного примера, в качестве образца можно представить икону «Спас нерукотворный» Ростово-Суздальской школы 1-й половины XIV в. (ГТГ) из церкви Введения в Ростове Великом101. Темноокий и большеглазый, с жесткой складкой губ, обрамленных темно-каштановыми усами и бородой, грекообразный Христос смотрит на нас испытующе…
Суровостью, аскетизмом, тревожным ожиданием апокалиптической кары и пафосом покаяния веет и от творчества Феофана Грека, венчающего период безраздельного господства византийской традиции в русском иконописании. О связи его неповторимого стиля с духовными и эстетическими новациями его родины – с исихазмом Григория Паламы и эстетикой поздних Палеологов, не раз писали историки искусства. Приходится заключить, однако, что данные особенности византийского стиля – сдержанность, суровость, аскетизм, эсхатологический настрой – соответствовали историческому моменту, переживаемому Русью под игом инородцев-иноверцев. Возможно поэтому век этих особенностей подошел к концу вместе с властью Орды.
Между тем, в конце XIV столетия центр русской художественной жизни, иконописи в частности, уже перемещается в Москву. Проявление именно здесь таланта великого Андрея Рублева было не случайным, ведь к этому времени в Москве сложился немалый круг мастеров церковного искусства, как иностранцев (греков, сербов), так и русских. Поэтому художественные искания были здесь особенно напряженными.
Господство византийской традиции именно в Москве на рубеже XIV—XV вв. (т.н. «второе византийское влияние», сугубо поддержанное греками-митрополитами) было особенно наглядным и убедительным. В Москве или для Москвы, ее храмов, создаются выдающиеся памятники искусства, к примеру – деисусный чин Благовещенского собора, приписываемый в целом либо Феофану Греку, либо неизвестному художнику-византийцу. В Высоцкий монастырь (близкий к Москве город Серпухов) из Царьграда доставляют поясной чин (ГТГ), отражающий расцвет т.н. палеологовского стиля. К московской школе относится икона Преображения, созданная около 1403 года для собора Переславля-Залесского (ГТГ); считается, что ее автор – русский ученик Феофана Грека, работавший также в манере поздней палеологовской живописи. И т. д.
Именно поэтому заметный отход от византийской традиции, проделанный Рублевым на общем фоне московской иконописи, станет столь знаковым и важным событием.
Этот отход, однако, произошел не вдруг, а был подготовлен, можно сказать, всем предшествующим путем русского искусства. Долгие годы постепенного и частичного отрыва Руси от своей духовной альма матер, Византии, не прошли даром. В региональных центрах искусства возникают своеобразные ростки русской национальной школы иконописи, отличающиеся своими особенностями. Подробно разбирать которые здесь неуместно, но некоторые важные моменты стоит подчеркнуть.
Во-первых, начинает складываться и продвигаться в массовое сознание «русский пантеон» – сонм своих национальных и даже местных святых на иконах. Начиная с князей-страстотерпцев Бориса и Глеба и с печерских подвижников. По преданию, ранняя такая икона «Свенский (Печерский) образ Богоматери» написана самим преподобным Алипием, печерским иноком и первым известным нам русским иконописцем. По сторонам трона Богородицы стоят основатели русского иночества: справа от Пречистой – Феодосий Печерский, а слева – Антоний Печерский102. Почитались еще с домонгольских времен также ростовский епископ-мученик Леонтий, креститель Руси Владимир и его бабка Ольга, существовали местные культы преподобного Авраамия Смоленского и полоцкой княжны-инокини Евфросинии. В дальнейшем, во многом «благодаря» монголо-татарам, история русской святости развивалась и росла, появлялись все новые мученики и страстотерпцы, подвижники и столпы христианской веры.
Далее, еще в домонгольский период на Руси начинает складываться квазинациональный культ святителя Николая Мирликийского (не зря говорят «Никола – русский бог»), о чем свидетельствует даже ряд уцелевших икон того времени. Трудно объяснить особую популярность этого святого у русского народа… Ни Византия, ни Запад такого специального культа не создали.
Тогда же на Руси появляются и свои новые праздники, которых не знала византийская церковь. Так, Андрей Боголюбский вводит в Русской (Северо-восточной) церкви праздники Всемилостивому Спасу 1 августа и Покрова Пресвятой Богородицы 1 октября (по Юлианскому календарю). И т. д.
Все это свидетельствовало о весьма раннем стремлении русской православной церкви к своеобразию и самостоятельности, что сопровождалось непрерывными попытками поставления митрополитов и священников более низкого сана из своих, из русских, а не из греков.
Национализация православия, происходившая шаг за шагом, отражалась в искусстве.
Во-вторых, происходит некоторое технико-технологическое упрощение русского иконописания по сравнению с византийским. Это касается как приемов мастерства (тонкие лессировки, колористические нюансы и т.п.), так и красок, материалов, что хорошо известно реставраторам. Скажем, золотой фон – это чаще всего признак именно греческой иконы, потому что русские иконописцы вынужденно заменяли его, к примеру, на красный (Новгород), синий (Тверь), зеленый или желто-охряный (Псков, Москва). В наибольшей степени это можно объяснить как технологической сложностью изготовления сусального золота, которого в распоряжении русских мастеров было мало, так и просто бедностью средств. Ведь экономически обескровленная татарами Русь многого не могла себе позволить. Зато при этом происходили колористические поиски и находки русских художников, обогащавших свою палитру новыми красками и их сочетанием.
Характерной особенностью является стремление русских иконописцев к большому формату, порой более двух метров в высоту. Первоначально это объясняется тем, что икон в ранние века русского христианства вообще было немного, каждая являлась художественным, а главное – религиозным событием и занимала в пространстве церкви особо важное место, концентрируя на себе все внимание молящихся (икону на Руси не зря именовали «зримой Библией»).
В-третьих и, возможно, в-главных, – именно на Руси возникает и получает максимальное развитие высокий многоярусный иконостас, полностью отделяющий священный алтарь от помещения для прихожан, пришедший на смену низкой алтарной перегородке византийского типа. Такой иконостас требовал уже каждый значительного количества икон – и также зачастую очень большого формата. Русский иконостас, стеной отгораживающий святая святых от профанической территории церкви, выполнял роль той завесы, что в Храме Соломоновом отделяла главную святыню, Ковчег Завета. Ничего подобного Византия не знала. А равно и Запад, где алтарь вообще открыт для обозрения со всех сторон.
Современная энциклопедия по искусству сообщает об этой важной новации:
«Иконостас возник из алтарной преграды, которая существовала уже в раннехристианских постройках. Она представляла собой невысокую мраморную балюстраду в виде колонного портика, в центре которого находился проход в алтарь. В Византии существовал тип алтарной преграды, называемый темплоном; его украшали орнаментами и изображениями крестов, фигурами святых. Самые ранние из сохранившихся иконописных изображений, помещавшихся на темплоне, относятся к XI в. С увеличением размера и числа икон темплон постепенно терял самостоятельное значение, становясь своего рода «подставкой» для живописных образов. На Руси в домонгольский период были также распространены невысокие одноярусные алтарные преграды по типу византийских темплонов. На рубеже XIV—XV вв. иконостас состоял уже из трех рядов, в XVI в. к ним добавился четвертый, в XVII в. – пятый. В конце XVII в. были попытки увеличить число рядов до шести-семи, но это не стало системой. Классический русский высокий иконостас насчитывает пять рядов – т.н. «чинов».
Иконостас как целостная композиция представляет собой проповедь христианского вероучения и спасительного пути в Царство Божие средствами живописи. Он скрывает от глаз верующих священные таинства, совершающиеся в алтаре, и в то же время обозначает незримое присутствие в пространстве храма изображенных на иконах Христа, Богоматери, святых. Ряды иконостаса выстраиваются подобно ступеням, рассказывая о духовном восхождении к горнему (высшему) миру»103.
Первым дошедшим до нас «полноформатным» иконостасом считается иконостас Благовещенского собора Московского Кремля (1399 или 1405; иконы приписывают Феофану Греку, Андрею Рублеву, Прохору с Городца). Однако понятно, что путь к этой весьма совершенной композиции занял не одно столетие. А главное – это был уже не византийский, а специфически русский способ художественного решения задач религиозного просвещения и воспитания, дававший русским живописцам огромные возможности проявить себя.
Все перечисленное сказалось и в духовном строе русского иконописания, который изменялся по мере перемен общественно-политической жизни Руси, связанных, во-первых, с постепенным избавлением от татарского ига, а во-вторых – с падением Византии и перемещением в Москву центра вселенского православия.
* * *
Важно отметить по ходу повествования, что в тот же период Ордынской Руси произошел не только постепенный, «мягкий» отход русского искусства от византийской традиции, но и резкий, принципиальный разрыв с искусством и культурой Запада. Это касается целого ряда отраслей прекрасного. В первую очередь – архитектуры, поскольку возникновение готики во Франции, а затем и в других странах Запада, не затронуло Русь, обошло ее стороной, не получило здесь никакого продвижения. А также живописи, поскольку на Западе случилось обмирщение церковной и возникновение полностью светской живописи, однако одновременно на Руси вся основная художественная жизнь сосредоточилась в иконе.
Следует отметить также, что даже в Византии основным поприщем для христианского искусства были мозаики и фрески, а вовсе не икона на дереве. А в Западной Европе икона тоже всегда была далеко не самым главным проявлением религиозного чувства в искусстве, заметно уступая в популярности круглой скульптуре – каменной, деревянной, терракотовой, майоликовой и костяной. Что связано с греко-римской традицией, во-первых, и с традицией изготовления реликвариев, во-вторых. В то время как на Руси, этих традиций миновавшей, деревянная круглая скульптура со времен Владимира Святого ассоциировалась с идолами и, соответственно, с идолопоклонством, а потому практически не использовалась в украшении церквей, терракотовая скульптура и вовсе не была развита, искусство полихромной керамики заглохло в результате татарского разорения, а слоновая кость практически не использовалась в ремесле.
Данные обстоятельства во многом определили центральное место иконописи в ряду русских искусств и ремесел и заставляют концентрировать на ней внимание исследователя.
Андрей Рублев и Дионисий —
предтечи русского национального искусства
Финалом ордынского периода для Руси становится XV век, который в истории русского искусства имеет отчетливый характер не просто конца эпохи, но ее итога. Это блистательный этап, венчающий собой долгий путь развития. Он отмечен такими вершинами, как творчество Андрея Рублева и Дионисия. Рублев (около 1360 – 1428) и Дионисий (около 1440 – не ранее 1502 и не позже 1525) – светлые русские гении – как бы окаймляют своими феноменальными достижениями это столетие, центральное для всей русской истории, достойное названия поворотного и судьбоносного. Они замыкают пятнадцатый век в его новой духовной роли, оттеняющей его новую политическую ипостась – век надежд и свершений именно для русского народа. Юность первого из них, Рублева, была озарена великим сполохом Куликовской битвы, юность второго, Дионисия, – торжеством свержения татарского ига и созданием Московского царства. В этом видится основная разгадка их творческой неповторимости и величия. Ведь в их работах отразились грандиозные русские победы, имевшие непреходящее значение, что сознавалось всеми современниками.
Чем же новым, небывалым отметились эти художники? Почему их можно назвать предтечами русского национального искусства? Следуя собственным наблюдениям и мысли наиболее видных исследователей древнерусского творчества, можно обнаружить следующее.
* * *
I. Вначале об Андрее Рублеве, чье имя, в отличие от множества других, неоднократно запечатлено в письменных источниках церковного и светского свойства. Достоверно принадлежащих кисти Рублева работ сохранилось немного. Еще некоторые приписываются ему с разной долей вероятности. Все работы подверглись тлетворному воздействию времени. Однако сегодня даже этого нам достаточно, чтобы оценить исключительность гения художника. А в свою эпоху он был широко известен и чтим, и созданные им многочисленные образы рассматривались современниками как высокий образец для подражания, эталон, на который ссылается эпохальный Стоглавый собор 1551 года. А рукопись XVII века «Сказание о святых иконописцах» и вовсе именует Андрея Рублева святым подвижником и боговидцем. «Чудных и пресловущих иконописцев» Даниила (Черного) и ученика его Андрея (Рублева) упоминает в своем Духовном завещании знаменитый игумен Иосиф Волоцкий. Имя Рублева в Древней Руси было известно очень многим – как московским царям, церковным иерархам, живописцам, так и простому люду. Подобное прославление – случай в нашей стране исключительный для того времени, но ведь и дарование было из ряда вон выходящее.
Рублев работал в разных жанрах и техниках: книжная иллюстрация (часть миниатюр «Евангелия Хитрово», ок. 1395, РГБ), фреска, икона. Сколько всего было им сделано и где ему довелось потрудиться, мы не знаем, но надо думать, что немало. Все его работы имеют выдающееся значение, позволяющее говорить о том, что второго такого мастера на Руси в то время не было, включая даже его непосредственных учителей – Феофана Грека и Даниила Черного, которых он превзошел заслуженною славою. Наиболее знамениты и изучены его росписи Владимирского Успенского собора (фреска «Страшный суд», 1408, а также огромные – более трех метров в высоту – иконы деисусного т.н. «Васильевского» чина, ГТГ, ГРМ), высокий иконостас Благовещенского собора в Кремле (три образа праздничного ряда и два образа в деисусном ряде, 1405), иконы «Владимирская Богоматерь» (ок. 1409, Владимир, Успенский собор – копия наиболее прославленной византийской иконы, хранящейся ныне в ГТГ), три иконы «Звенигородского чина» (датировка по В. Н. Лазареву 1410—1415, встречается и более поздняя, ГТГ), и, наконец, наиболее прославленная на весь мир «Троица» (1410-1420-е гг., ГТГ).
В начале XV века Рублев уже имел репутацию большого мастера, руководил артелями художников. В одном из посланий знаменитого игумена Иосифа Волоцкого около 1511 года отмечено: «Поставил у меня иконник Феодосей иконы Андреева письма, промена им двадцать рублев»; такая цена подарка указывает на его великую стоимость: за 20 рублей в то время можно было купить целую деревню. Сложилась связанная с именем Рублева московская школа иконописи, продолжавшая существовать, по разным оценкам, еще лет двадцать-сорок после смерти великого мастера. Его стилистическое влияние распространилось и далеко за пределы Владимиро-Суздальского и Московского княжеств, поскольку учениками преподобного Сергия Радонежского было основано множество монастырей от Белого моря до Астрахани, а ведь Рублев со товарищи в течение двух с лишним лет (1425—27) расписывал Троицкий собор Троице-Сергиевого монастыря, воспитывая тем самым вкус будущих подвижников веры. Не случайно даже еще в середине XVI века в постановлении Стоглавого собора церковь официально рекомендовала живописцам писать «с древних преводов, како греческие иконописцы писали и как писал Ондрей Рублев и прочие пресловущие иконописцы…»104.
Если попытаться окинуть взором все связанные с именем Рублева иконы и фрески, то становятся очевидными стилистические и духовные особенности его творческого наследия. По большому счету их три.
Во-первых, искусствоведы обращают внимание на рублевскую колористику. Одним из первых пропагандистов рублевского творчества в ХХ веке был И. Э. Грабарь, который восхищался Рублевым-колористом:
«Яркость рублевских красок не была новостью, и мы знаем новгородские иконы, не уступающие рублевским по яркости и силе цвета, но никогда еще русский иконописец не задавался такой определенной задачей гармонизации цветов, приведения их в единый гармонический аккорд, как это мы видим в „Троице“ и центральных фресках Владимирского собора»105.
Академик В. Н. Лазарев отмечает: рублевские иконы «с первого же взгляда поражают необычайной красотою своих холодных светлых красок»106.
Или вот мнение известного знатока древнерусской живописи М. В. Алпатова: «В Звенигородском чине ярко вспыхнуло дарование Рублева как колориста. В передаче лиц и тканей есть светотеневая лепка, но преобладает все же чистое звучание красок, гармония холодных голубых тонов с нежно-розовыми и золотистыми. Такого богатства оттенков и полутонов не знала русская иконопись до Рублева. Не знала ее и иконопись византийская»107.
Последнее особенно важно. Искусствовед Анна Сидельникова разъясняет эту мысль: «Византийские иконы, которые видел Рублев и на которых учился, были совсем иными по колориту. Гармоничность цветовых сочетаний в них достигалась выбеливанием цветов, приглушенностью благородных, смешанных оттенков. Чистого цвета в них не было, и уж тем более контраста чистых цветов»108.
Во-вторых, обращает на себя внимание общий дух рублевских образов и сюжетов, сильно отличающийся от господствующего впечатления иконописи XIV века, не только от византийских икон, но и даже от творчества непосредственно старших товарищей и учителей – Феофана Грека и Даниила Черного. Это дух благодати, мира, добра, согласия, гармонии; иконы Рублева дарят людям надежду и вносят в душу покой. Чем резко отличаются от икон предыдущей эпохи, когда «Спас Ярое око» вонзал в сердце и ум человека свой «без промаха бьющий глаз».
Вот как пишут об этом признанные знатоки.
О фреске «Страшный суд» Владимирского Успенского собора:
– если искусство Даниила Черного «было, конечно, искусством скорее XIV века, нежели XV, искусством, обеими ногами стоявшим на почве, подготовленной приезжими византийскими мастерами и, в частности, последним из них – Феофаном», то «всматриваясь в живопись центральных изображений, мы определенно чувствуем в них дыхание нового времени. Там – последние отзвуки старого мира, здесь провидение и возвещение нового. К первому возврата не было, второму принадлежало будущее, и это будущее действительно целиком выросло из художественного идеала, впервые на Руси явленного на стенах центрального нефа владимирского Успенского собора»109;
– «Страшный суд у византийцев обычно располагался на западной стене храма и открывался взгляду человека, как величественное и устрашающее зрелище… Зрелище это выражало незыблемость небесной иерархии, неукоснительность божественного правосудия. Он должен был чувствовать себя жалким червяком перед этим финалом человеческой истории… Но что ожидает людей в час „светопреставления“? Византийцы яркими красками рисовали картины людских мучений, гнев судий, суровое возмездие за грехи людей, весь ужас содрогающегося человечества. Эти картины придавали назидательный смысл живописному повествованию… Подобное представление о Страшном суде долго царило на Руси… Роспись Рублева проникнута более бодрым и даже радостным настроением. Картины вечных мучений грешников не сохранились, видимо, они мало занимали его. В глазах людей, призванных на Страшный суд, можно прочесть не столько страх наказания, сколько ожидание милости и прощения, веру в светлое будущее и вечное райское блаженство…»110.
Об иконостасе Благовещенского собора в Кремле:
– «Иконы Благовещенского собора – первая на Руси серия праздничных икон. Византийская иконография подвергается в них переосмыслению. В византийских праздниках этого времени больше повествовательности… Общее впечатление от этих икон – драматизм, беспокойство, земная суета. В рублевских иконах меньше действия и драматизма. Эти праздники – торжественные обряды, в которых можно видеть лишь подобие легендарных событий. В иконах Рублева меньше происходит, но больше свершается. И вместе с тем сильнее выявляется духовная значительность представленного»111.
О «Спасе» и вообще о Звенигородском чине112:
– «Образ Христа настолько очеловечивается, что совершенно утрачивает отвлеченный культовый характер»113;
– «Не менее творчески переосмыслил Рублев византийское наследие и в образе апостола Павла. Художник должен был знать Высоцкий чин, присланный из Константинополя в Высоцкий монастырь между 1387 и 1396 годами… Его апостол Павел навеян соответствующей полуфигурой Высоцкого чина. И вот, когда сопоставляешь оба эти памятника, то опять без труда улавливаешь существенное между ними различие: рублевский Павел мягче, сердечнее, проще; полуфигура апостола много светлее и жизнерадостнее по цвету, в ней отсутствует напряженная светотеневая лепка византийского оригинала. Все это, вместе взятое, приводит к тому, что византийская икона, по сравнению с рублевской, кажется сухой и сумрачной. Ей присущ тот оттенок фанатизма, который совершенно отсутствует у Рублева»114.
О «Троице»:
– «Глаз легко улавливает различие между произведениями Рублева и его византийских современников, однако не всегда легко определить, в чем коренится это различие… „Троица“ Рублева общеизвестна, и все же, когда видишь ее после „Троицы“ византийской, трудно удержаться, чтобы не воскликнуть: что за прекрасное произведение! Старая мелодия зазвучала у него по-иному, захватывающе, и вот прошло уже пять веков, но она не утратила своего обаяния… Византийский мастер рассказывает, поучает, но он не вложил в легенду столько человеческого содержания, сколько вложил Рублев»115.
Подобные цитаты можно было бы значительно умножить, но достаточно и этого.
В-третьих. Право называться национальным русским гением Андрей Рублев в значительной степени заслужил тем, что тенденция к «обрусению» библейских персонажей приобрела в его творчестве отчетливый, ярко выраженный и принципиальный характер, стала его «фирменным стилем». Об этом чрезвычайно важном, бросающемся в глаза моменте также немало писали наиболее выдающиеся исследователи и пропагандисты его художественного наследия.
И. Э. Грабарь, описывая рублевскую копию знаменитой византийской иконы Владимирской Божьей матери, указывал: «Чарующую песнь материнства, задолго до италианских примитивов воспетую вдохновенным византийцем, Рублев переложил на свой лад, и если его песня не так складна, как та, то она, наверное, душевней и еще пленительней. Бесконечно русское, быть может впервые столь непреложно русское, это произведение в такой же мере излучает из себя чудесную силу художественных накоплений новой эпохи, как и „Троица“: ими окончательно определены дальнейшие пути русского искусства, наконец-то отрешившегося от византийских традиций»116.
В. Н. Лазарев по поводу «Страшного суда» подчеркивал: «В арке, ведущей из центрального нефа в южный, и на юго-восточном столбе центрального нефа художники изобразили лики праведных мужей и жен, восставших из мертвых. Тут и святители, и мученики, и монахи, и цари, и царицы. У них простые русские лица, на большинстве из них русские одеяния»117.
И. К. Языкова: «Удивительны жесты ангелов, которые обращаются к апостолам, и удивительно такие, я бы сказала, русские лики апостолов – об этом тоже мы скажем, что Рублев меняет, даже физиогномически меняет икону. Он вносит в нее какой-то особый, мягкий славянский элемент».
М. В. Алпатов отмечал: «Возможно, что в своем Звенигородском чине Рублев отталкивался от чина Высоцкого монастыря в Серпухове, происходящего из Константинополя. В Звенигородском чине мы сразу узнаем работу русского мастера, а в иконах Высоцкого чина больше византийского в лицах, в выражении, в колорите и так далее»118.
Н. А. Демина высказалась, быть может, наиболее верно и наблюдательно из всех, кто писал о звенигородском «Спасе»: «…воплощение типично русской благообразности. Ни один элемент лица не подчеркнут чрезмерно – всё пропорционально и согласованно: он рус, глаза его не преувеличены, нос прямой и тонкий, рот мал, овал лица хотя и удлинённый, но не узкий, в нем совсем нет аскетичности, голова с густой массой волос со спокойным достоинством возвышается на сильной, стройной шее. Самое значительное в этом новом облике – взгляд. Он направлен прямо на зрителя и выражает живое и деятельное внимание к нему; в нём чувствуется желание вникнуть в душу человека и понять его. Брови свободно приподняты, отчего нет выражения ни напряжения, ни скорби, взгляд ясный, открытый, благожелательный. Перед нами как бы сильный и деятельный человек, который имеет достаточно душевных сил и энергии, чтобы отдать себя на поддержку тем, кто в этом нуждается. Звенигородский Спас больше натуральной величины человека. Он полон величия. Кроме того, в нем есть строгость внутренней чистоты и непосредственности, есть полное доверие к человеку»119.
Я мог бы цитировать и еще. Но лучше позволю себе высказать собственное предположение: звенигородский «Спас» – есть главное художественное выражение эпохи, непосредственно обусловленное победой русских над вековым врагом на Куликовом поле. До этого переломного события подобный победительный, жизнеутверждающий, источающий оптимизм образ просто не мог бы появиться. И под видом Христа перед нами предстоит не просто Спаситель рода человеческого, но и спаситель Руси, истинно русский князь-победитель, исполненный света, мощи, величия и благостыни. Недаром его незабываемый, бесподобный и бесконечно родной нам лик так популярен – ведь это наш национальный символ, ни более ни менее: духовный портрет русского народа. Созданный русским гением…
Таким образом, суммируя сказанное выше, можно придти к выводу, что творчество Андрея Рублева задало русской живописи на все XV столетие (как минимум) определенную доминанту – и это именно русская национальная доминанта. Она была таковой и сама по себе, и по отношению к византийской иконописной традиции и, тем более, по отношению к искусству Запада120.
Конечно, как справедливо подчеркивал еще Алпатов, «в XIV—XV веках на Руси авторитет Византии был еще очень высок» и в плане «древлего благочестия», и «в делах искусства». Однако, он же не менее верно писал: «Между тем греки и южные славяне, духовные лица и художники, попадая на Русь, должны были заметить, что русские давно уже выросли из роли робких подражателей. Правда, русские придерживались тех же догматов, что и византийцы. Русские храмы строились по образцу византийских крестовокупольных храмов. Но русский храм никогда не спутаешь с византийским. В русских иконах и фресках проглядывают новые эстетические понятия. Создатели этого искусства сами не определяли своих художественных позиций. Но если в церковных вопросах русские послушно следовали за Византией, то в искусстве, как и в государственных делах, они уже завоевали себе независимость… Глаз легко улавливает различие между произведениями Рублева и его византийских современников, однако не всегда легко определить, в чем коренится это различие»121.
Впрочем, именно это мы и попытались сделать.
* * *
II. Рублевым начался русский XV век в искусстве. Теперь перейдем к Дионисию, чьим творчеством это век венчается.
Как и Андрей Рублев, Дионисий был высоко оценен современниками, отмечен вниманием московских великих князей, не раз его имя встречается в письменных источниках. Его работами, как и рублевскими, украшен Кремль, а именно Успенский собор, куда его пригласили работать сразу после удачного дебюта в церкви Рождества Богородицы Пафнутьево-Боровского монастыря близ Калуги, где молодой художник подвизался в 1467—1477 гг. (К этому времени он уже успел пройти обучение у некоего изографа на средства своего весьма достаточного отца из боярского рода Квашниных.)
Конечно, в судьбе Дионисия сказалось определенное везение: его фрески попали на глаза самому великому князю московскому Ивану III Васильевичу, который сразу отметил талант молодого мастера и пригласил того работать в Москву. Отчасти в том была заслуга самого Дионисия, раннее творчество которого уже отчетливо перекликалось по стилю, краскам и настроению с работами прославленного Андрея Рублева. Но дело еще и в том, что Москва к тому времени настолько возвысилась, что у князя Ивана возникли весьма честолюбивые планы по ее украшению, в первую очередь – путем церковного строительства. Ведь взятие в 1453 году турками Константинополя автоматически превратило Москву в центр вселенского православия. А этот статус ко многому обязывал. И вот Иван III затевает в Кремле строительство нового – грандиозного по тем меркам – собора, церкви Успения Богородицы.
Первоначально церковь должны были строить свои, русские зодчие Мышкин и Кривцов из Пскова, но случился страшный конфуз и катастрофа: уже возведенная было постройка рухнула при легком землетрясении, ибо «известь была неклеевита, а камень нетверд». После чего великий князь вынужден был отвратить свой взор от местных строителей и обратить его на латинский Запад: он пригласил из Болоньи потомственного и весьма именитого архитектора и инженера Аристотеля Фиораванти, который и выстроил славный Успенский собор. Но начал он с налаживания производства «правильного» кирпича, чем очень способствовал прогрессу русской архитектуры.
В соборе удивительным образом слились в органическом сочетании традиции древнерусской архитектуры, идущие от Византии, но и обретшие уже некоторое национальное своеобразие, – с достижениями раннего итальянского Ренессанса, носителем которых был Фиораванти. Дело в том, что Иван Третий, создатель русского национального государства, хоть и пригласил зодчего итальянца, но вовсе не хотел, чтобы главный собор Руси, Москвы был создан на западный манер. Нет, он должен был непременно быть именно русским, чтобы лишний раз подтвердить право Москвы быть главным городом не только вселенского православия, но и русского народа, столицей Русской Земли. Поэтому для начала Фиораванти был отправлен по русским городам, чтобы проникнуться особенностями, а главное – духом нашей архитектуры122. Именно поэтому же в основу замысла всего здания оказался положен Успенский собор во Владимире, расписанный некогда Андреем Рублевым.
Следует полагать, что по той же причине именно молодой Дионисий, откровенно ориентированный на художественные принципы своего великого предшественника, был приглашен великим князем в Кремль расписывать чудесный собор. Что он и сделал со своими помощниками (некие «Коня, Ярец да поп Тимофей»), да так, что не только заработал немалые деньги, но и поверг в восторженное изумление современников. Летописи сообщают, что увидевшие фрески Дионисия великий князь с боярами, «видя многочудные росписи, мнили себя, аки на небесях стоящими…». Неудивительно, что архиепископ Вассиан сразу же предложил тем же художникам создать для Успенского собора и весь иконостас123, где основную работу – деисусный чин – взял на себя Дионисий, получивший после окончания работ (1481) прозвание «преизящного мастера». Впоследствии к этому прозвищу добавится эпитет «мудрый» (Патерик Иосифо-Волоколамского монастыря).
Дионисий вообще неоднократно, как и Рублев, с похвалами упомянут в письменных источниках, что, как уже говорилось, нечасто выпадало на долю древнерусских художников. Есть мнение, что именно ему, в первую очередь, предназначался трактат «Послание иконописцу и три „слова“ о почитании икон» Иосифа Волоцкого. С именем этого крупнейшего деятеля русской церкви и главного борца против «ереси жидовствующих» имя Дионисия связано такими же важными духовными узами, как имя Рублева – с именем Сергия Радонежского. Насчитывается более 80 икон (не говоря о пропавших), написанных Дионисием по заказу великого подвижника. Другим крупным заказчиком произведений Дионисия выступил Вассиан Рыло – архиепископ ростовский и доверенное лицо Ивана III. Эти два видных церковных иерарха заложили на Руси, как считается, традицию коллекционирования икон не только как сакральных объектов, но и как произведений искусства (что уже давно практиковалось на Западе). И на первом месте в их собраниях оказался Дионисий. Это начинание подхватят затем русские цари, патриархи и другие высокопоставленные лица.
Работа в Москве, связь с культурой и художественными традициями именно Московского княжества, прочно связала Дионисия с московской школой иконописи, хранящей дух Андрея Рублева. Но Дионисий много сделал, чтобы этот дух распространился по Руси, приняв характер общерусского, национального. По окончании связанных с кремлевским Успенским собором творческих свершений, он неоднократно выезжал за московские пределы, возможно с уже сложившейся артелью, а впоследствии и с пошедшими по его стопам сыновьями, чтобы расписывать церковь Успения Богоматери в Иосифо-Волоколамском монастыре, а также Павло-Обнорский, Спасо-Прилуцкий, Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри. Его кисти принадлежит иконостас Спасо-Каменного монастыря под далекой Вологдой, а также и иные, не сохранившиеся до наших дней иконы и фрески. О некоторых его успехах нам поведали летописи. Академик В. Н. Лазарев подытожил: «Творчество Дионисия сыграло огромную роль в истории древнерусской живописи… С Дионисием парадное, праздничное, торжественное искусство Москвы стало на Руси ведущим. На него начали ориентироваться все города, ему начали всюду подражать…».
Дионисий прожил долгую жизнь (по одним данным – до 60, по другим до 85 лет), достойно завершив удивительную эпоху восстания Руси из пепла инородного владычества. Его творчество – своего рода гимн возрождению родного народа.
Искусствоведы не случайно выделяют такую особенность его художественной манеры, как величайшая свобода и непринужденность как в композициях, так и в колористике. Он использует в иконах и фресках не только традиционные, основные цвета, несущие определенную символику, но и дополнительные, не использовавшиеся ранее. Характерная особенность – самостоятельное значение, которое в работах Дионисия получил белый цвет в сочетании со светло-зеленоватыми, голубыми и золотистыми тонами, создающими приподнятое, праздничное настроение, очень далекое от тех впечатлений, что оставляет высокоторжественная, но слишком серьезная и даже мрачноватая византийская иконопись. Но пример падшей Византии – уже не указ для расцветающей Руси, и Дионисий своим творчеством подтверждает эту смену вех.
Дионисий был прежде всего художник – эстет, а не мыслитель; его главной целью была красота, гармония. Этой цели посвящено все: легкость и прозрачность колорита, красивые лики святых, их изящные удлиненные пропорции, позволяющие говорить о Дионисии как о предтече европейского маньеризма, родившегося столетие спустя. (Эти пропорции мы опознаем потом в работах Пармиджанино, школы Фонтенбло, Эль Греко и т.д.) А поскольку думать о влиянии русского мастера на ход развития европейской эстетики не приходится, то можно лишь подчеркнуть феноменальность его творчества. Своим оптимистическим, жизнеутверждающим искусством Дионисий близок, несомненно, Рублеву, пусть его образы и не несут той философской нагрузки, которая исходит от «Троицы» или «Страшного суда».
Удачно выразилась искусствовед Марина Удальцова:
«Творчество иконописца Дионисия – ликующая светлая песнь в красках гениального русского художника, прославляющая добро и красоту, – явилось ярким выражением созидания Святой Руси, расцвета православной культуры и искусства эпохи XV—XVI вв. когда Московское государство утверждало свое могущество»124.
На этой идее стоит остановиться, запомнить ее. Ведь неформальный, но вполне реальный идеал «Святой Руси» дозревает именно в XV в. Идеал совершенно интравертный, который только в XVII столетии решительно сменится экстравертным идеалом «Москва – Третий Рим» (пусть и возникшим значительно раньше, в царствование Василия Третьего). Огрубляя, идею Святой Руси можно выразить так: мир лежит во тьме, поскольку отрекся от правильной веры, которая, ввиду морального (две унии) и политического падения Византии, сохранилась только у нас на Руси, у русского православного народа. В этой связи мир – обречен, он весь погибнет в день Страшного суда, ждать которого недолго, и только мы, русские, спасемся, будучи исповедниками единственно истинной веры, подлинного православия. Поэтому наша основная жизненная цель и задача – хранить во всей чистоте православие, веру отцов, и спастись благодаря этому. А весь остальной мир, погрязший в грехе безбожия и ложной веры, может катиться хоть в тартарары – туда ему и дорога: «Мы нашли свой путь к спасению, а что будет со всеми вами – нам безразлично; что заслужили, то и получайте».
Иными словами, Московская Русь именно в эпоху Дионисия вполне сложилась как вновь созданное великое самодостаточное государство, преодолевшее «рознь мира сего» и готовое к единой собственной судьбе125.
Идея Святой Руси – ни в коей мере не миссионерская; она, скорее, изоляционистская, рассчитанная на «внутреннее потребление». Не случайно русское старообрядчество, пронесшее через века именно русский национальный вариант христианства, сложившийся в XIV—XVI вв., носило (и носит) весьма замкнутый характер, не отличаясь прозелитизмом. Это принципиальная позиция «хранителей абсолютной истины».
В формировании массовых представлений о русском национальном варианте христианства невозможно переоценить роль художников, особенно Рублева и Дионисия, впитывая дух произведений которых, русские люди учились вере. В этой вере они рождались и росли, но знали ее не умом, а сердцем, и учили не по книгам, а по церковному бытию, где в центре всего была именно икона. Русская икона, сотворенная великими русскими художниками, решительно шагнувшими за рамки византийского наследия.
ИТОГИ ГЛАВЫ:
ПРЕДПОСЫЛКИ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ126 РУССКОГО ИСКУССТВА
Итак, к концу XV столетия история русского народа и русской государственности подошла с важнейшими итоговыми результатами в политике, экономике и культуре, определившими судьбу Руси на все обозримое будущее вплоть до наших дней.
В политике это: 1) объединение под центральной властью Москвы большинства исторических русских земель (на которых были расселены летописные славянские племена), кроме тех, что подверглись запустению от татар или польско-литовской оккупации; возникновение на этой основе централизованного русского национального государства; 2) свержение татарского ига, прекращение выплаты даней татарам, самостоятельность правления московских великих князей – независимых суверенов, чье вокняжение отныне не требовало получения ярлыка у татарских ханов; 3) возвышение всемирного значения Москвы как опорного центра вселенского православия; 4) складывание всех предпосылок для неограниченного великокняжеского (царского) самодержавия; 5) создание большой и централизованной боеспособной армии, которая внушительно проявила себя во время долгого Стояния на Угре, не позволив Орде осуществить переправу и пройти карательным походом по Руси.
В экономике это прекращение выплаты ордынской дани с начала 1470-х годов, что позволяло аккумулировать значительные денежные средства в руках великих князей. Как следствие – оживление каменного строительства, ремесел, хозяйства и торговли.
В литературе и искусстве, развивавшихся почти исключительно в рамках православного христианского вероисповедания, несмотря на обилие, по-прежнему, переводной церковной литературы, происходят значительные сдвиги в плане национализации этой религии. Исчезновение верховного авторитета, жестко контролирующего христианскую мысль, в качестве которого веками выступал Константинополь и его киевские, владимирские, московские и др. ставленники, необычайно стимулировало отечественное богословие. Это обстоятельство первостепенной важности. Во «Введении» недаром подчеркивалось такое качество русского народа, как вероцентризм (исключительная сосредоточенность на вероисповедных вопросах), присущий ему изначально; в условиях Ордынской Руси оно окрепло, отвердело.
Уже к середине XV века появляются русские обличительные тексты, разоблачающие духовное падение Константинополя, предшествовавшее его взятию турками, а именно – капитуляцию константинопольского патриарха и императора Византии, заключивших унию с Римом на его условиях в 1439 году. Данное событие шокировало Русь, вновь, после первой унии 1274 года, породив резко скептическое отношение к своему вчерашнему наставнику и учителю праведности. Дело в том, что русское посольство побывало в 1438—1439 гг. на том самом Ферраро-Флорентинском соборе, что завершился столь бесславно. Это событие отразил ряд литературных памятников: «Исхождение» епископа Суздальского Авраамия, «Повесть о восьмом соборе» Симеона Суздальского, а также «Хождение во Флоренцию» и заметка «О Риме» неизвестного суздальца127. На основании этих источников и устных пересудов было составлено около 1460 года послание митрополита Ионы киевскому князю Александру Владимировичу, а также западнорусским епископам, в котором уния однозначно осуждалась. А в 1461—1462 гг. появилось яркое «Слово избрано от святых писаний, еже на латыню, и сказание о составлении осмаго собора латыньскаго, и о извержении Сидора Прелестнаго, и о поставлении в Русской земли митрополитов, по сих же похвала благоверному великому князю Василию Васильевичу всея Руси», направленное против Флорентийского собора, против унии восточно-христианской и римско-католической церквей. Данное «Слово» – своего рода рубеж: оно утверждало право русской церкви на полную независимость от павшей и падшей Византии.
Между тем, ослабление Орды и сокращение числа татарских набегов и разорений привело не только к лучшей сохранности старых текстов, но и к значительному росту числа новых. А именно.
Пишутся жития и службы местным русским святым, поучения, послания, «слова» и иные многообразные сочинения выдающихся русских церковников, в том числе направленные против ересей стригольников и жидовствующих. Создается новая редакция Киево-Печерского патерика. Среди новых житий выделяется «Житие Сергия Радонежского» Пахомия Логофета (древнейший список датирован 1459) вкупе со службой этому святому, каноном, акафистом и похвальным словом. Тот же Логофет в 1459—1461 составляет «Житие митрополита Алексея», «Житие Евфимия Новгородского», в 1473 пишет канон Стефану Пермскому, а в 1474—1475 – вторую редакцию «Жития Кирилла Белозерского». Немаловажно отметить появление уже с XIV века житий православных князей, умученных в басурманской Орде: Михаила Черниговского и Михаила Тверского, хотя формально их канонизация произошла лишь в середине XVI века. Одновременно множатся культы местных святых. Рост русского пантеона и мартиролога свидетельствовал о росте исторического и национального русского самосознания и служил прологом к составлению «Великих Четьих Миней» митрополита Макария, канонизировавших не просто сонм русских святых, но Святую Русь как таковую, как феномен.
В конце XV века разворачивается целая полемика выдающихся отечественных церковных писателей о правильном исповедании религии: Иосифа Волоцкого и Нила Сорского и их последователей – «иосифлян» и «нестяжателей». В конце XV – начале XVI века пишутся многие «послания» и иные тексты, и даже появляется «Список истинных книг», составленный в исихастском духе Нилом Сорским или близкими к нему людьми. Однако не этот отголосок византийского влияния обозначил главное течение русской общественной мысли: историческая победа осталась за иосифлянством – русской национальной теорией союза церкви и государства. По схожему пути, но чуть позже, пошла Англия, резко порвавшая с католическим Римом, создавшая свою собственную – англиканскую – церковь и провозгласившая своего короля главой этой церкви.
Выдающиеся достижения русской письменной культуры не ограничивались сферой религии. В XIV—XV вв. восстанавливается летописание, традиция которого оказалась нарушена в связи с нашествием иноплеменных. Причем не только ведутся летописи местного значения (Новгород, Псков, Тверь, Смоленск и др.), но и переписываются общерусские (Лаврентьевская и др.), а что еще важнее, создается Первый московский летописный свод (1340, по М. Д. Приселкову), а в 1479 году происходит первое составление Московского великокняжеского летописного свода, в состав которого вошла подробная «Повесть о присоединении Новгорода». Москва укрепляет свои позиции центра Руси – не только политического, но и духовного.
Чрезвычайно важно отметить, что в период Ордынской Руси произошла своеобразная перемена ориентации русского народа с Запада на Восток. Этому способствовали такие факторы, как: 1) выставленный людьми Запада (поляками, литовцами, немцами, шведами) разделительный кордон128; 2) разрыв с католической церковью; 3) сохранившийся христианский транзит, ведший русского пилигрима именно в восточном направлении: в Константинополь, на Афон и в Святую Землю; 4) развитие торговых отношений со странами Востока, превращение Волги и Дона в главные торговые артерии (со странами, соответственно, Каспийского и Азовско-Черноморского бассейнов). Судить о степени перемен позволяет, опять-таки, литература.
Известные мемуары русских путешественников (неважно, торговцев или паломников) все повествуют исключительно о землях Востока. Начиная с «Путешествия в Палестину» игумена Даниила (1104—1106) и далее, в хронологическом порядке: «Сказание о святых местах в Константинополе» Василия Калики (1321—1323); «Хождение Стефана Новгородца» в Константинополь (1348—1349); «Хождение архимандрита Агрефения» в Иерусалим и «Сказание о пути к Иерусалиму» инока Епифания (1370-е); «Пименово хожение в Царьград», «Беседа о святынях Царьграда» и «Сказание о Царьграде», составленные Игнатием Смольнянином по наказу смоленского епископа Михаила на основе впечатлений от паломничества митрополита Пимена (1389—1393); «Хождение в Царьград» дьяка Александра (1391—1396), включенное в Новгородскую IV летопись; «Хождение» диакона Троице-Сергиева монастыря Зосимы в Константинополь и Иерусалим (1419—1420); «Слово о бытии Иерусалимском» Арсения Селунского (XV век); «Хождение» иеромонаха Варсонофия в Иерусалим, Египет и Синай (1456 и 1461—1462); «Повесть о взятии Царьграда турками» Нестора Искандера (предположительно 1460-е) и, наконец, рассказ о взятии Константинополя турками, записанный Герасимом Поповкой со слов монаха-доминиканца Вениамина в Новгороде (1491).
Наряду с этой паломнической по смыслу литературой мы встречаем и тексты иного, бытописательного жанра. Они все относятся уже к XV веку, когда контроль Орды над Русью ослаб: «Сказание о Железных вратах» – рассказ русского путешественника, побывавшего в 1436—1447 годах в Дербенте и Ширване; «Хождение на Восток» купца Василия Познякова, побывавшего в Малой Азии, Египте и Святой Земле (1465—1466); наконец, знаменитое «Хожение за три моря» Афанасия Никитина (1471—1474, по Л. С. Семенову), повествующее о путешествии русского купца в Индию, Персию, Эфиопию, Турцию и Крым. В 1492—1493, по гипотезе А. А. Шахматова, некий казначей Михаил Григорьев (либо Гиреев) совершил путешествие на Ближний Восток, оставив описание в списках «Хронографа» (не ранее 1512). В конце XV – начале XVI века написано также сказание о Сибири под названием «О человецех незнаемых в восточной стране».
Все перечисленное ясно свидетельствует о восточном направлении вектора русских интересов и любознательности, русского тяготения. Ведь ничего подобного или даже близко сравнимого не написано русскими людьми того времени о странах Запада, если не считать отчета о Флорентийском соборе129. Это важно отметить, поскольку, как станет ясно из дальнейшего, к XVI веку произошла весьма значительная как идейно-политическая, так и эстетическая переориентация русского народа с Запада на Восток. Этот момент традиционно недооценивается историками. Пора поднять его на щит.
Но, быть может, самое важное – создаются такие фундаментальные светские литературные памятники, которые закладывают и поддерживают историческое сознание русского народа, становятся для него нравственными и политическими маяками, продолжая традицию «Слова о полку Игореве». Это повесть о Куликовской битве «Задонщина» (вскоре после 1380, по М. Н. Тихомирову – уже в 1384); «Повесть о нашествии Тохтамыша» (конец XIV века, по Л. А. Дмитриеву); «Повесть о разорении Рязани Батыем» (конец XIV века либо первая половина XIV века); «Повесть о стоянии на Угре» (между 1481 и 1489); «Сказание о Мамаевом побоище» (первая четверть XV века, по Л. А. Дмитриеву; между 1440-ми годами и началом XVI века, по М. А. Салминой), «Повесть о битве на реке Воже», «Повесть о битве на реке Пьяне», «Повесть о нашествии Едигея». И т. д. Ряд этих повестей впоследствии вошел в состав различных летописей, стал частью официальной историографии.
Итак, мы видим: русский народ приступает к осмыслению своей истории уже как единого целого не только во времени, но и в пространстве. Это уже в полном смысле слова национальная история, история русской нации. При этом оказывается, что она, по большому счету, состоит из двух главных составляющих. Отчасти это – история бед и Божьей кары, принесенных на нашу землю татарами, история отчаянной, но справедливой и успешной борьбы русского народа с вековечным врагом; а отчасти – история русской святости, Святой Руси, пережившей, одолевшей и преобразовавшей Русь Ордынскую.
Национализация православия, неизбежная в контексте всяческого возвышения Москвской Руси, становилась мейнстримом времени. Процессы русского духовного роста, отразившиеся в богословии и литературе, не в меньшей степени проявились и в живописи, о чем подробно говорилось выше. Иконопись Андрея Рублева и Дионисия выразила этот духовный рост, быть может, ярче всего, но этими именами дело не ограничивалось, само явление носило достаточно массовый, эпохальный характер.
Все указанные процессы вели к образованнию нового для русских идейно-политического феномена – русского национализма. Который и сформировался в XVI веке, проявившись многообразно – от доктрины старца Филофея «Москва – Третий Рим» и деяний царя Иоанна и митрополита Макария до национализации православия, увенчавшейся учреждением русского патриаршества в конце столетия. Золотой век русского искусства неотделим от данного феномена, определившего этот век в его главом содержании.
Таким образом, к началу XVI века Русь подошла в своем новом качестве, готовая осуществить своего рода метаморфозис, как бабочка, вылупившаяся из куколки, – та же самая, что была вчера, но все-таки совсем другая. Уже расставшаяся с коконом, но еще не расправившая крылья. Она была полна надежд и возможностей, которым суждено было так или иначе осуществиться, она готова была заявить о себе миру (Европе), представ в том своеобразии, что сложилось за почти три века относительной изоляции. Давно и прочно оторванная от Европы и уже оторвавшаяся к этому времени также и от Византии, она, наконец, получила уникальную возможность быть самой собой, переплавив то общее, что было у нее и с Западом (до татар), и с Византией (до турок), а теперь уже и с Востоком, – в нечто свое собственное, проявив при этом свои природные свойства и качества, веками таившиеся под спудом.
Русскому национальному государству, сложившемуся в XV веке, устоявшему и укрепившемуся в последующих столетиях, должно было соответствовать, что естественно, русское национальное искусство.
91
Лазарев В. Н. История византийской живописи. – М., 1947. – С. 181.
92
В то же время, на Руси в XIV—XV также порой разгорались свои вероисповедные страсти (ересь «стригольников» во Пскове, ересь «жидовствующих» в Новгороде и Москве). По мнению некоторых исследователей, отголоски жестоких прений (еретики плохо кончили: одни в заточении, другие были сожжены в срубе) можно обнаружить и в русской иконе.
93
См., например: Пугачева И. В. Богородичные иконы во Флоренции XIII века. Образ и его почитание // Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства. 2015. Вып. 1 (17). – С. 68—99. Относительно Белозерской иконы В. Г. Пуцко утверждает, что «по общему характеру живописи белозерская икона Богоматери напоминает произведения греческих мастеров периода Латинской империи на Востоке (1204—1261) … Сходство проявляется прежде всего в трактовке лиц с характерными признаками позднекомниновского стиля… Мастер белозерской иконы следовал очень хорошему образцу» (Пуцко В. Г. Икона Богоматери Белозерской: русская иконопись XIII века в европейском художественном контексте // Белозерье: краеведческий альманах. Вып. 2. – Вологда, Легия, 1998. – С. 330—343).
94
Ср.: «Спас Нерукотворный» (ок. 1191 г., ГТГ), «Ангел златые власы» (кон. XII в., ГРМ), поклонная икона «Св. Георгий» из Георгиевского собора Юрьевского монастыря (1130-1140-е гг., ГТГ), «Устюжское Благовещение» (нач. XII в., ГТГ) и др.
95
Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. – М.: Искусство, 2000. – Стр. 43—44.
96
Евгений Трубецкой. Три очерка о русской иконе. «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке. – М., Лепта, 2000. – С. 33.
97
Не случайно даже в середине XIX века художник Александр Иванов именно в этих краях искал семитские типажи для своего «Явления Христа народу».
98
См.: Смирнова Э. С. Икона Николы 1294 года мастера Алексы Петрова // Древнерусское искусство. Зарубежные связи [т. 9]. – М.: Наука, 1975. – С. 81—105.
99
Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века… – С. 39—40.
100
Галимзянова Е. А. Псковская школа живописи. – http://w.histrf.ru/articles/article/show/pskovskaia_shkola_ikonopisi
101
См.: Ростово-суздальская живопись XII—XVI веков. – М., Изобразительное искусство, 1970. – №8.
102
Феодосий Печерский – третий из святых, канонизированных русской церковью (первыми стали Борис и Глеб), и первый святой иноческого чина. Феодосий и его учитель преподобный Антоний (канонизированный несколько позже) стали основателями русского монашества.
103
Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия. Под ред. проф. Горкина А. П. – М., Росмэн, 2007.
104
Стоглав. – СПб., Изд. Д. Е. Кожанчиков, 1863. – С. 122.
105
И. Грабарь. Андрей Рублев. – «Вопросы реставрации», 1, 1926. – С. 72—74.
106
Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. – М.: Искусство, 2000. – С. 102.
107
Алпатов М. В. Андрей Рублев. – М.: Изобразительное искусство, 1972. – С. 87.
108
Анна Сидельникова. Андрей Рублев. Троица. – https://artchive.ru/artists/10~Andrej_Rublev/works/14804~Troitsa.
109
И. Грабарь. Андрей Рублев. – «Вопросы реставрации», 1, 1926, стр. 19—21.
110
Алпатов М. В. Андрей Рублев… – С. 47—48.
111
Алпатов М. В. Андрей Рублев… – С. 32—33.
112
В 2017 г. из стен ГТГ проистекла информация, что в результате технико-технологического анализа авторство Андрея Рублева в отношении Звенигородского чина поставлено под сомнение. Качество пигментов и приемы наложения красок привели к предположению, что «Троицу», заведомо принадлежащую кисти Рублева, и иконы Звенигородского чина писал не один и тот же мастер. Особенно настаивает на данном выводе византолог Алексей Лидов. Однако пока что дирекция ГТГ воздержалась от внесения изменений в каталог своего собрания икон. Сомнения, конечно, имеют право быть. Но ведь между написанием этоих шедевров мог быть значительный – вплоть до десяти и более лет – разрыв во времени, а Рублев в эти годы развивался как мастер, мог радикально поменять и краски, и приемы. Далее: если следовать Лидову и др., то приходится предположить, что одновременно с Феофаном, Даниилом и Рублевым жил равновеликий и конгениальный им художник (или даже художники), притом совершенно неизвестный, никак не отразившийся в письменных источниках, легендах и преданиях. Что представляется вовсе невероятным в отношении автора такого класса. Но самое главное – стиль и дух Звенигородского чина с первого же взгляда позволяет принять позицию И. Грабаря, В. Лазарева, М. Алпатова, Н. Деминой, И. Языковой и др., однозначно относивших эти три знаменитые иконы к творчеству Рублева.
113
Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. – М.: Искусство, 2000. – С. 102.
114
Лазарев В. Н. Там же, с. 32.
115
Алпатов М. В. Рублев и Византия. – L’Arte, 1958, vol. 23/3. – http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000006/st011.shtml
116
И. Грабарь. Андрей Рублев. – «Вопросы реставрации», 1, 1926. – С. 102—103.
117
Лазарев В. Н. Там же, с. 36.
118
Алпатов М. В. Андрей Рублев… – С. 159.
119
Демина Н. А. Черты героической действительности XIV—XV веков в образах людей Андрея Рублева и художников его круга. – Труды Отдела древнерусской литературы, М.—Л., 1956. – С. 319.
120
Прекрасно высказался на этот счет М. В. Алпатов: «Историческое место искусства Андрея Рублева не может быть определено путем его стилевой классификации, то есть перенесением на него тех стилевых категорий, которые выработаны были историей искусства при изучении изобразительного искусства Западной Европы. Попытка определить значение Рублева критериями западных стилей неизбежно ведет к непониманию его сущности. Не следует забывать, что Рублев – это не рядовой художник среди многих других. Это гениальный мастер, в творчестве которого сосредоточены едва ли не самые значительные и драгоценные достоинства целой художественной школы. Творчество его настолько своеобразно, что на основании его можно говорить о выходящей за рамки эпохи мирового значения всей древнерусской художественной школы в целом… Рядом с Возрождением на Западе творчество Рублева, как геометрия Лобачевского рядом с геометрией Эвклида. При известной близости в те годы искусства Запада и Востока, художественный язык каждого из них неповторимо своеобразен» (Андрей Рублев… – С. 181).
121
Алпатов М. В. Рублев и Византия…
122
Точно по такому же принципу чуть позже, в 1485 году итальянскими же мастерами во главе с Алевизом Фрязином началось строительство каменного Великокняжеского дворца, но… по образцу древнерусских деревянных хором. Русское зодчество, в том числе деревянное, крепко держало свои позиции.
123
Трехъярусный иконостас был высотой более 9 м: 21 икона деисусного чина, 25 праздничного чина, 15 пророческого чина.
124
Марина Удальцова. Дионисий – русский иконописец. – http://sozidatel.org/articles/territoriya-kultury/2331–dionisij.html
125
Схожее наблюдение сделал историк А. Б. Горянин: «Оставшаяся без идейного авторитета, Русь все больше укреплялась в убеждении: московский великий князь – единственный во всей вселенной православный правитель, а это значит, что вся вселенная – подлинная, не пораженная беззаконием (очень интересное слово для обозначения всего иноверного) – ныне находится в пределах Московской Руси. Все, что за ее пределами, – гноище басурман либо, того хуже, еретиков. То есть Русь, Святая Русь – выше всех. А раз она выше всех, на какой образец общественного и церковного устройства ей равняться? Только на Царство Божье». – Александр Горянин. К Востоку или к Западу? – https://russkiymir.ru/publications/228711/.
126
Термин «национализация» не юридический, а культурологический, его следует понимать не в смысле огосударствления или обобществления некоей собственности, а как преобразование культурных начал в национальном духе.
127
См. в кн.: 1) Мощинская Н. В. «Повесть об осьмом соборе» Симеона Суздальского и «Хождение на Ферраро-Флорентийский собор» неизвестного суздальца как литературные памятники середины XV века: (Текстология, идеологические тенденции и стилевое своеобразие). Автореф. дис… канд. филол. наук. – М., 1972; 2) Казакова Н. А. Западная Европа в русской письменности XV—XVI веков: Из истории международных культурных связей России. – Л., 1980.
128
Через этот кордон нелегко было пройти не только из Руси в Европу, но и из Европы на Русь. Так, итальянцам, которые нанимались к великим князьям в качестве строителей и инженеров, приходилось порой годами добираться до Москвы через Молдавию и Крым.
129
Казакова Н. А. Западная Европа в русской письменности XV—XVI веков: Из истории международных культурных связей России. – Л., 1980. Надо признать, что с середины XVI века у русского читателя появились переводные источники, повествующие, в том числе, о современных странах Запада. Но их было крайне мало и они носили поверхностный обзорный характер, как, например, русский перевод «Хроники всего света» польского писателя и историка Марцина Бельского (первод не ранее 1564). А вот популярное «Сказание об Индийском царстве» было переведено уже в первой половине XIV или даже в XIII веке. Это сравнение позволяет четко определить вектор русских интересов и приоритетов: Восток более Запада.