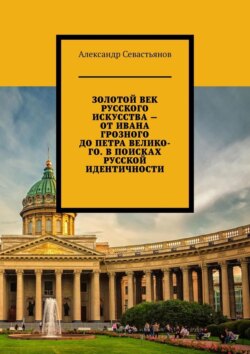Читать книгу Золотой век русского искусства – от Ивана Грозного до Петра Великого. В поисках русской идентичности - Александр Никитич Севастьянов - Страница 6
ВВЕДЕНИЕ. РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И ИСКУССТВО
ОглавлениеЧто такое русский «Золотой век»
«Золотым веком» русской культуры у историков и обществоведов принято называть XIX столетие, когда русские литераторы, художники и музыканты создали произведения, обогатившие духовный мир всей антропосферы. От Пушкина, Лермонтова и Гоголя до Толстого, Тургенева и Достоевского в литературе; от Брюллова, Иванова и Айвазовского до передвижников в живописи; от Бортнянского и Глинки до Чайковского и «Могучей кучки» в музыке. Все последующее проходит уже по разряду «Серебряного века», а все предшествующее рассматривается как некая взлетная полоса, по которой русская культура брала разгон перед тем, как воспарить.
Вдумчивому наблюдателю, однако, трудно согласиться с такой классификацией. Не потому, чтобы лучшие достижения русской культуры этого периода по своему абсолютному значению не дотягивали до высших оценок. Дотягивают, безусловно. Но потому, что берет сомнение: насколько русскими были эти «золотые» достижения – то есть, насколько выразился в них дух именно русской нации, ее национальное начало, национальное своеобразие. Ведь с XVIII вся русская витринная литература и искусство, включая музыку и архитектуру (т.е. культура высших классов, представляющая нацию на мировой сцене), создавалась не по национальным, а по европейским лекалам. И русские поэты, писатели, архитекторы, художники и композиторы равняли себя и свое творчество не с русскими, а с европейскими предшественниками и современными коллегами. «Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен», – так недаром один русский гений того времени возвеличивал другого (Сумароков – Ломоносова), себя самого при этом уподобляя Корнелю и Расину, что характерно.
Между тем, для любого, даже начинающего, искусствоведа совершенно ясно, что в истории мировой культуры наибольший интерес представляют именно те страницы, на которых отразилось нечто национально самобытное, своеобразное. И даже в том случае, когда народы принадлежат к одной расе и исповедуют одну религию (например китайские и японские монголоиды-буддисты), мы учимся видеть в их искусстве, схожем только на взгляд дилетанта, не черты сходства, а черты глубокого различия, обсуловленного отчетливо выраженным национальным духом, национальным характером. И дорожим именно этими различиями, восхищаемся ими и ценим их, что особенно убедительно и ярко выражается в молотковой цене мировых арт-аукционов.
В силу сказанного понятно, что титуловать XIX столетие Золотым веком русского искусства вряд ли справедливо. Золотой-то он Золотой, да только русский ли? Быть может, стоит поискать в нашей отечественной истории другой период, более достойный так прозываться? На данный вопрос и отвечает настоящая монография.
Почему так важно разобраться в обозначенной проблеме? Потому что за ней просматривается другая проблема, неизмеримо более важная, особенно актуальная сегодня и требующая решения.
* * *
Постулат науки этнополитики гласит, что народы отличаются друг от друга вовсе не потому, что они говорят на разных языках, исповедуют разные религии, и представляют мировому сообществу различное культурное наследие. Так может показаться лишь на самый первый, поверхностный взгляд. В действительности же все обстоит строго наоборот. Народы создают различные культурные наследия, придумывают или выбирают себе различные религии и говорят на разных языках именно потому, что они разные изначально, биологически, а значит и онтологически, экзистенциально. Такова этнополитическая аксиоматика1.
Выдающийся историк и культуролог Б. Ф. Поршнев учил, что социальное не сводится к биологическому, но социальное не из чего вывести, кроме как из биологического2. Этничность всегда исходна, первична, а выражает она себя через производное, вторичное: прежде всего – именно через язык, веру, культуру. И чем дальше биологически отстоят друг от друга те или иные этносы и расы, тем разительнее будут отличия в их языках, вере, культуре. Эти ярко проявленные отличия обычно и выступают на поверхности нашего сознания как индикаторы, определители этносов и рас, по ним мы судим о национальных особенностях, национальном характере. Но в действительности корень национального своеобразия растет из глубины биологического происхождения3. Тех, кому интересно, почему и как это происходит, следует адресовать к учебнику «Основы этнополитики», написанному автором этих строк. А мы пойдем дальше в своих рассуждениях.
Сказанное выше означает, что достижения той или иной национальной культуры нельзя рассматривать в отрыве от константы: имманентных черт национального характера – и наоборот. История русского народа, в частности, если мы хотим понимать ее более-менее правильно, требует внимательного изучения русской культуры. Одновременно история русской культуры не может рассматриваться вне контекста истории русского народа. Поскольку не только биологическое (в большей степени), но и историческое (в меньшей) оказывает влияние на формирование национальных архетипов. И ключевой вопрос в этом случае ставится так: а что же такое собственно русская культура, когда, в чем и почему она проявилась с максимальной полнотой? По каким образцам ее лучше всего изучать, исследуя связи с национальным русским характером?
Главная проблема, возникающая при такой постановке вопроса, состоит в том, что для историка именно русской культуры всегда крайне остро стоит вопрос о заимствованиях. И о той границе, где эти заимствования, по диалектическому закону перехода количества в качество, меняют национальную природу собственно русской культуры. Эта проблема встает на протяжении последнего тысячелетия каждый раз, когда наблюдаются заимствования от Византии, от мусульманского (и не только) Востока, от Запада. Несомненно, русское национальное начало, связанное с национальным характером, пробивалось и сквозь иностранные и инородные влияния. Но насколько полно в том или ином случае? Рассмотрение этого вопроса также лежит в центре внимания данной монографии. Но прежде чем перейти ко всему этому, необходимо сделать два отступления.
Отступление первое: о методе.
Здесь уместно сказать несколько слов об авторском методе работы.
В свое время крупный историк Матвей Александрович Гуковский, завкафедрой истории Средних веков истфака ЛГУ и руководитель научной библиотеки Эрмитажа, ввел в оборот (в связи с полемикой вокруг Л. Н. Гумилева) весьма меткое наблюдение. «Он разделил историков на „мелочеведов“ и „синтетиков“. Синтетики создают целостные научные концепции, а мелочеведы исправляют их „частные ошибки“»4.
Относя себя, безусловно, к синтетикам, автор этих строк далек от пренебрежительного отношения к мелочеведам, напротив, относится к ним с величайшим почтением. Поскольку именно мелочеведам любой синтетик вообще обязан самой возможностью синтезировать историю. Образно говоря, в любой отрасли, включая литературу, искусство, историю и т.п., творческие люди бывают двух типов. Одни из них изобретают и творят «кирпичи», средства творчества – материалы, приемы и технологии (слова и выражения, термины и понятия, ноты, краски, тысячи фактов и фрагментов знания и т.п.), другие же из этих кирпичей создают в свободной творческой игре дворцы и храмы. Примером первого типа могут служить в музыке Вивальди и Гайдн, второго – Моцарт; в русской литературе первый тип представлен Сумароковым, Херасковым, Фонвизиным, Ломоносовым, Державиным и др., второй – Пушкиным. И т. д.
К тому времени, когда автор увлекся темой «Золотого века» русского искусства, основной фонд «кирпичей», из которых можно сложить подобное здание, был уже создан трудами многих исследователей в самых разных областях. Тут приходилось неукоснительно следовать завету Б. Ф. Поршнева, который утверждал, что «ученому все дозволено – все перепроверить, все испробовать, все продумать, не действительны ни барьеры дипломов, ни размежевание дисциплин. Запрещено ему только одно: быть неосведомленным о том, что сделано до него в том или ином вопросе, за который он взялся»5. Автор постарался этого избежать.
Мне не довелось работать в экспедициях или участвовать в археологических раскопках, в трудах реставраторов, мало пришлось обращаться к архивам, благо важнейшие документы эпохи давно опубликованы или описаны. На моем счету почти нет детальных исследований отдельных имен, фактов, явлений, нет громких атрибуций и т. п. Свою задачу я видел в том, чтобы опираясь на уже имеющиеся наиболее авторитетные исследования, осуществить синтез, взглянуть на проблему с высоты птичьего полета и понять общую картину, как она видится на данный момент. Пройдут годы, какие-то детали этой картины будут непременно пересмотрены, и тогда понадобится новый синтез, чтобы получить новую общую картину, исправленную и дополненную. Но пока этого не случилось, я предлагаю для ознакомления и осмысления то, что есть.
В связи со сказанным хочу перечислить основных авторов, чьи труды по русской истории и искусству XVI—XVII вв. сыграли для настоящей монографии роль опорных, основополагающих: Александровский М., Алпатов М. В., Астафьева Н. А., Баранова С. И., Баталов А. Л., Бекенева Н. Г., Брюсова В. Г., Бусева-Давыдова И. Л., Вилкова M.В., Виппер Б. Р., Висковатов А. В., Вишневская И. И., Власова О. М., Гамлицкий А. В., Глазунова О. Н., Горностаев Ф. Ф., Грабарь И. Э., Забелин И. Е., Заграевский С. В., Ильин М. А., Кириченко Е. И., Кирпичников А. Н., Ковригина В. А., Комаров И. А., Комашко Н. И., Кравченко А. С., Кузнецова О. Б., Лазарев В. Н., Лясковская О. А., Мартынова М. В., Мартынова Т. В., Маясова Н. А., Муратов П. П., Немировский Е. Л., Нерсесян Л. В., Овчинникова Е. С., Орленко С. П., Панченко А. М., Подъяпольский С. С., Постникова-Лосева М. М., Раппопорт П. А., Робинсон А. Н., Руднева Л. Ю., Савина Л. Н., Сарабьянов В. Д., Сидоров А. А., Смирнова Э. С., Соболев Н. Н., Тихомирова Е. В., Усачев А. С., Уткин А. П., Филюшкин А. И., Хромов О. Р., Цицинова О.А, Черникова Т. В., Черная Л. А., Языкова И. К. По ходу повествования мне не раз доводилось на них ссылаться, а также цитировать, подчас обильно, поскольку лучше них тот или иной тезис никто не изложил, а пересказывать их тексты своими словами – занятие пошлое и пустое. С некоторыми из названных авторов пришлось полемизировать, но это не лишает их заслуженного места в списке.
В свое оправдание хочу привести строки из лучшей биографии Л. Н. Гумилева: «Безусловно, историку надо извлекать факты из исторических документов, а не из книг предшественников. Но, с другой стороны, если бы Гумилев пользовался таким старым, надежным дедовским методом, никогда бы он не создал пассионарной теории этногенеза, не написал бы даже половины своих книг. Метод Гумилева – брать факты из обобщающих монографий и сопоставлять – был единственно возможным… Историки в большинстве своем не ценят теоретиков… Но совсем без теории нельзя, и вот историки идут на поклон к философам и социологам, хотя те создают совершенно умозрительные модели»6. Но умозрительные, далекие от реалий жизни и истории модели, вообще спекулятивная философия – это как раз то, что для автора этих строк в принципе неприемлемо и без чего он стремился обойтись, сознательно убегая от всякой схоластической отвлеченности и псевдонаучного блудословия, свойственного «науке мнений» в отличие от «науки фактов и знаний».
Итак, перед читателем – концептуальный синтез сведений по важнейшей теме русской истории, в основе которого лежат многоразличные наиболее ценные, интересные и добротные труды по частным вопросам. Хочется верить, что это сообщает некоторую добротность и данному обощающему труду, первому в таком роде. В этом особенность номер один метода.
* * *
Реконструировать русскую историю допетровского периода крайне трудно из-за гигантских лакун в письменном наследии, образовавшихся в результате различных трагических перипетий. Поэтому историк вынужден работать в условиях, когда роль документа играет артефакт. Но это значит, что необходимо учиться артефакты «читать». Этому, в значительной степени, посвящено настоящее исследование.
Но особенность номер два моей монографии состоит в том, что обсуждение искусства, на взгляд автора, не может осуществляться «насухую», лишь умозрительно, отвлеченно-схоластически. Оно для этого слишком чувственно по своей природе и требует рассмотрения вживую. И коль скоро рассказ о нем не всегда может сопровождатся иллюстрациями (хотя в нынешних условиях Интернет может восполнить этот недостаток), то он требует хотя бы словесных картин и оценок. Что неизбежно влечет за собой определенный субъективизм в подходах. Что поделать, так поступали (вынуждены были поступать) многие даже выдающиеся искусствоведы прошлого, такие, как А. Н. Бенуа, И. Э. Грабарь, В. Н. Лазарев, М. В. Алпатов и др. Не избежали этого и их замечательные преемники более близкого нам времени – В. Д. Сарабьянов, В. Г. Брюсова, И. К. Языкова и др. Не все их субъективные оценки выдержали проверку временем, но читать их, однако, всегда интересно, даже и возражая им мысленно с позиций современного знания. Говоря об искусстве Золотого века, я старался следовать их примеру, не избегая эмоциальности и субъективизма, хотя и не возводя их в ведущий принцип изложения.
Здесь мне могут отчасти послужить оправданием обстоятельства моей биографии. Родившийся и проведший первые годы жизни в обстановке, приближенной к музейной, я в течение сорока лет увлеченно занимался коллекционерством и искусствознанием, исходив многие центры концентрации артефактов – от блошиных рынков до ведущих музеев мира. Определенная натренированность глаза и приобретенные по ходу дела сведения помогли обрести почву для оценок, способных, хочется верить, как можно дольше устаивать против действия времени.
Впрочем, об этом пусть судит читатель. А потом пусть придет новый историк-синтетик и на основе накопившихся новых фактов создаст новый концепт русского искусства на смену настоящему.
* * *
Еще одна, третья, методическая особенность настоящей монографии в том, что она строится в соответствии с глубочайшим, выношенным убеждением автора в том, что в гуманитарных сферах познания все взаимосвязано, и наилучшие результаты обретаются на стыке наук. В частности, затруднительно стать хорошим историком, не ориентируясь в искусстве и литературе; но совершенно невозможно стать хорошим литературо- и искусствоведом, не зная как следует историю избранной эпохи.
Тема, заявленная в заглавии – «В поисках русской идентичности» – не может рассматриваться и искать своего разрешения вне самого широкого исторического контекста. Да, ключ к ее раскрытию дает нам именно история искусства, но все дело в том, что самый ее ход был во многом обусловлен историческими обстоятельствами, в т.ч. мирового масштаба. Это очевидно и без доказательств, но по ходу изложения читатель многократно в том убедится.
В силу сказанного повесть об эстетической эволюции Древней Руси в обязательном порядке предваряется во всех разделах, кроме третьего, рассказом о широком историческом контексте того или иного периода. Эти фрагменты монографии носят именно такой стереотипный подзаголовок: «Исторический контекст». Необходимо, чтобы читатель погрузился в те проблемы и заботы, которые одолевали русское общество, определяя главный ход его чувств и мыслей, его стремления и приоритеты, ставя его перед выбором своего пути, своей судьбы. Что затем выражалось в искусстве.
А выбирать, как убедится читатель, было из чего – и в конфессиональном, и в цивилизационном плане. И в этом выборе каждый раз участвовал не только общий, роевой разум народа (та «равнодействующая воль», на которую указывал Лев Толстой), но и общий инстинкт самосохранения, спасительный для народов, который имеет биологическое происхождение и проявляется как патриотизм и национализм.
Предваряя рассказ, можно заявить в оправдание метода, что XV—XVII вв. есть время возникновения и становления русской нации как таковой. И главным индикатором этого процесса стало рождение Золотого века русского искусства, какого не было ни до, ни после этой трудной и славной эпохи.
Вот таковы, в главных чертах, особенности метода, примененного при написании данной монографии.
* * *
Дополнительно я должен сделать важное пояснение.
По ходу изложения читатель не раз столкнется с понятиями, обращающимися в сфере расологии, этнологии и антропологии. Возможно, некоторые приводимые здесь определения и постулаты покажутся читателю излишне безапелляционными, и ему захочется прибегнуть к более привычным, пусть и некритически воспринятым, укрыться в тихой гавани давно задекларированных (псведо) научных школ типа «примордиализма», «конструктивизма», «инструментализма» и проч. Но тут, при внимательном рассмотрении дела, неизбежно возникнет большая проблема, с которой многим – и мне тоже – уже приходилось сталкиваться.
Никаких общепризнанных главных терминов и постулатов, никакого консенсуса и вообще никакой непротиворечивой и приемлемой для логики теории, никакой школы, достойной того, чтобы вступить в ряды ее последователей, в этнологии обнаружить не удается. Во всяком случае, мне, хотя я постарался досконально изучить историю вопроса. Для того, чтобы читатель в этом полностью убедился, достаточно ознакомиться с такими источниками, как работы известных отечественных ученых: монография А. Й. Элеза «Критика этнологии», статьи В. В. Коротеевой «Существуют ли общепризнанные истины о национализме» (и иные), диссертация А. С. Мукановой «Феномены „нация“ и „национализм“: проблемы истории и теории» и др. Полезно также поинтересоваться некоторыми критическими соображениями академика Ю. В. Бромлея и д. и. н. В.Д. Соловья, а также моей статьей «Идолы конструктивизма», специально посвященной таким лжеавторитетам, как Э. Геллнер, Э. Хобсбаум, Б. Андерсон, В. А. Тишков и иже с ними. Тогда станет понятно, что ссылка на подобные «авторитеты» может лишь скомпрометировать, а вовсе не фундировать или украсить любую научную работу.
Сознавая сей огорчительный, но непреложный факт, автору пришлось самому написать такие книги, как «Раса и этнос» (2007, 2009 гг. в соавторстве с В. Б. Авдеевым), «Этнос и нация» (2008) и «Основы этнополитики» (2014), где история и теория основных терминов и понятий, необходимых этнологу и антропологу, таких, как «раса», «этнос», «нация», «национализм», «национальное государство» и пр., подвергнуты подробнейшему разбору и «разложены по полочкам». В результате все дефиниции пришлось определить, а иногда и переопределить заново по сумме объективных характеристик, чтобы сделать сколько-нибудь удобоваримыми для работы с научной целью.
Поскольку в монографии, посвященной истории искусства, подробный пересказ истории вопроса и всей аргументации в пользу практикуемых здесь дефиниций этнолого-антропологического характера явно неуместен (это вдвое увеличило бы объем текста и увело бы в сторону от главной темы), мне ничего не остается другого, как предложить принять их доверительно – или адресовать интересующихся к вышеназванным работам, поскольку ничего более вразумительного рекомендовать по совести не могу. Так уж получилось исторически, что никто, кроме меня, не сподобился на подобный труд и не получил подобного результата, да простится мне эта нескромность.
Дело также еще в том, что я посвятил свою жизнь не просто отдельным предметам исследования, изучая их хаотически – сегодня одно (филологию, книговедение, искусствоведение), завтра другое (социологию, историю, обществоведение, политологию, биологию, этнологию, антропологию) по произвольному выбору, беспринципно («чего левая нога захочет»), влекомый только свободным научным интересом. Нет, моей задачей всегда было выстраивание системной картины антропосферы, чтобы заявить историософию, альтернативную марксизму. Ведь марксизм – последняя капитальная попытка создать универсальную картину мира, за которой, после ее срыва, ничего подобного так и не появилось, если не считать интересную пробу Андрея Московита (И. М. Ефимова), распространявшего в самиздате свою «Метаполитику» в начале 1970-х гг. (первое легальное издание вышло в США в 1978 году после эмиграции автора).
К сожалению, крах СССР, выстроенного на теоретическом фундаменте теорий Маркса, сильно скомпрометировал эти теории и заставил обществоведов отбросить их, как ветхий хлам. Как обычно, ребенка при этом выплеснули вместе с водой. Между тем, сильная сторона марксизма, в частности, – в его политэкономии и той призме борьбы классов, через которую Маркс и его последователи смотрят на историю. Но сильная сторона, как это нередко случается, диалектически обернулась слабостью. Ведь у марксистов есть и своя ахиллесова пята – национальный вопрос, которого они не понимают и в принципе не способы постичь, зашоренные как раз-таки политэкономическим подходом и классовой теорией. В силу чего я попытался исправить положение, представив не борьбу классов, а борьбу этносов как первостепенную движущую силу истории, что, как показывает теория и практика, куда ближе к истине, хотя и классовый подход совсем отбрасывать не следует.
Так я пришел к убеждению, что не политэкономия, а этнополитика в первую очередь определяет судьбы мира. (Ярче всего это проявляется в цивилизационных конфликтах и конкуренции, в том числе через войны. На эту тему мною в 2013 г. выпущена книга «Битва цивилизаций: секрет победы»). Отсюда – необходимость изучать национальный, этнический аспект истории и культуры народов мира, если мы хотим адекватно понять прошлое и спрогнозировать будущее.
При этом, конечно же, игнорировать социальный аспект исторического дискурса ни в коем случае не следует, ведь человек рождается и умирает в системе координат, где абсцисса определяется его социальным, а ордината – национальным происхождением. Их диалектическое взаимодействие следует всегда отслеживать и учитывать.
Со временем, уяснив для себя ответы на основные вопросы об общественном устройстве и движущих силах истории, я решил осуществить проекцию своих наработок в область культурологии, в особенности в изначально близкую мне область истории русской культуры и искусства. Подобным разворотом я отчасти обязан всегдашнему интересу ко всему этому, отчасти – обстоятельствам биографии.
Таким образом, настоящий труд есть производное от более широкого замысла, касающегося историософии и культурологии, но созданное на русском материале в силу моих собственных национальных свойств и предпочтений.
Отступление второе: кто такие русские
Понятно, что в настоящей преамбуле нам не уйти от вопроса о том, что собой представляют русские в стартовый период своей истории, и когда, собственно, этот стартовый период происходил.
И начать, конечно, следует с дефиниции: что такое русский народ, кто такие русские. Такая дефиниция, по непреложному требованию социологической методологии, не имеет права строиться на неформальных и неверифицируемых критериях. Этого требует также и принципиальный базовый подход в этнологии. Поэтому данную дефиницию я предлагаю в том виде, как она сложилась, прежде всего, при изучении биологических (антропологических и генетических) характеристик русского народа, описанных отечественными специалистами7. Она такова:
русский народ – это сложносоставной европеоидный этнос, имеющий славянскую генетическую основу от летописных племен и говорящий по-русски.
Необходимо разъяснить данную формулу по ее существенным частям.
* * *
1. Чтобы эта формула стали понятной и действенной в умах читателей, нужно разобраться, прежде всего, что есть славянская генетическая основа летописных племен. Откуда взялись славяне и что они собой представляют биологически.
«Во мнозех же временах сели суть Словене по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска. И от тех Словен разидошася по земле и прозвашася имены своими, где седше, на котором месте», – гласит источник: русская летопись. Увы, она не раскрывает секретов этногенеза славян. Скорее, наоборот, запутывает нас. Ибо на Дунае славянские племена «сели» довольно поздно, в VI—VII веках, явившись туда уже законченными славянами (о чем свидетельствуют, в частности, этнонимы популяций-дублетов, именно тогда образовавшихся в Центральной и Южной Европе и сохраняющихся там доныне: дулебы, северяне, кривичи). Откуда же они пришли на Дунай, где эпицентр их этногенеза?
Для ответа на этот вопрос проведем блиц-экскурс в историю в свете фактов, опубликованных в специальной литературе. Считается, что однажды за всю историю человечества произошли некие мутации, отразившиеся в митохондриальной ДНК (мтДНК), поэтому все люди, имеющие данную мутацию, являются между собой более или менее близкими родственниками по материнской линии. Есть ли у всех русских эта мутация или нет? Все ли русские – родственники?
На этот счет есть научное утверждение: «датировки мтДНК восточных славян составляют 30 тысяч лет». Это сведения первостепенной важности. Они означают, что славяне могли возникнуть как биологическая популяция уже тогда (м.б. и позже, «а когда именно – по-прежнему неизвестно»): предпосылка к этому налицо8. Генетическое своеобразие некоей общности протославян (семья? род? племя?), передаваемое по материнской линии, уже сложилось 30 тыс. л.н.!
Изначально славянский этнос, славяне, как и кавкасионцы, кельты, германцы, финны и некоторые другие, принадлежат все вообще к кроманьонско-европеоидному древу. Которое насчитывает не менее 50 тыс. лет, судя по древнейшим стоянкам. Около 20 тыс. лет это древо стояло, время от времени выбрасывая ростки разных веток-этносов. Одни ветки захирели, исчезли, привились на другое дерево (синантропо-монголоидное, неандертальско-негроидное), другие дожили до наших дней. Но вот, 30 тыс. л.н. оно выбросило, наконец, протославянский росток, которому суждено было уцелеть. В течение 30 тыс. лет протославяне развивались, росли, дробились, пускали, в свою очередь, свои ростки, судьбы которых также сложились по-разному. Славянские субэтносы по закону дивергенции сами становились этносами (зачастую со своими собственными субэтносами), а славянский этнос тем самым превращался в суперэтнос, каким мы его видим сегодня9.
Важнейший вопрос: где это произошло?
Ответ дает археология, позволяющая, во-первых, увязывать памятники той или иной культуры с определенной расой, определенным этносом, а во-вторых – четко их локализовать и датировать. Судя по картам, определющим границы европейского (европеоидного) и азиатского (моноглоидного) генофонда на разных этапах верхнего палеолита (граница проходит главным образом по Уралу), рождение славянской мтДНК не могло произойти нигде, кроме как на пространстве Европы. Ибо здесь не только проходил последний по времени расогенез европеоида вообще, но и явно находился эпицентр этого расогенеза.
Это важный вывод, но он требует конкретизации: где именно в Европе это произошло. Основной вывод ученых состоит в том, что славяне первоначально сложились как этнос н.э. на огромной территории от Левобережья Среднего Днепра до Эльбы, от Померании, Лужиц и Бреста до Закарпатья, Приднестровья и Нижнего Днепра. Что проявилось и сохранилось до наших дней в виде единой на этом пространстве в начале I тысячелетия культуры «полей погребальных урн». А также отчасти в «языке земли» – топонимике. Хотя второй критерий менее надежен и носит вспомогательный характер, поскольку те или иные географические называния не обязательно давались этносом, доминирующим в ареале.
Итак, прошло примерно 28 тысяч лет, прежде чем биологическая предпосылка славянского этноса материализовалась в отчетливо выраженную славянскую этничность, проявленную и закрепленную уже не только в генетике, но и в языке и культуре. Весь этот процесс ни на одном из своих этапов не выходил за географические рамки Европы. Об этом, опять же, свидетельствует археология, выявляющая генезис тех элементов, из которых складывалась вышеупомянутая культура и которые по отношению к ней выступают как изначальные.
Первоначальная форма существования славян – после того, как неизбежный процесс дивергенции разложил посткроманьонскую ностратическую общность на индоевропейские этносы10, – это славянские роды и племена. (Ряд из них на территории Восточной Европы позднее примет участие в собственно русском этногенезе.) Это, с одной стороны, потомки антов, а с другой – потомки склавинов: племена, которые мы называем летописными. По мнению проф. В. В. Мавродина, под этими этнонимами скрываются собственно славяне – склавины, склавены, сакалибы в транскрибции неславянских авторов – и выделившиеся из них на территории современной Украины в III—V вв. анты, которым, однако, суждено было не стать отдельным народом, а вернуться в общеславянское лоно позднее, в VI—VII вв.
В этногенезе антов, несколько отличном от этногенеза склавинов, принимали участие, помимо доминирующих славян, еще и пахотные скифы, фракийцы, гето-даки, возможно и другие этносы.
В этногенезе склавинов участвовали кельты и финны, а возможно и германцы.
Но в обоих славянских субэтносах доминировала славянская основа.
Объединение склавинов с антами вызвало, как это бывает в подобных случаях (объединение монголов с родственными чжурчженями в XII—XIII вв., русских с украинцами в 1654 г. и т.д.), прилив энтузиазма, «пассионарности», выразившийся в экспансионистских устремлениях. Славяне, теперь их так уже можно называть, дружно и фронтально двинулись на Дунай и «сели» там, как сообщает летописец. Не все, конечно, а лишь те, кто не предпочел остаться дома, но и этих было немало. К этому времени они подразделялись уже не на антов и склавинов, а на многочисленные племена, которые и перечислены летописцами.
Однако в VII веке славян повыбили с Дуная болгары (тюрки из орд Аспаруха), а в IX веке еще и венгры (тоже тюрки, но другие, финноязычные). Из Центральной и Западной Европы, где славяне распространились, дойдя до Фульдского монастыря, лесов Тюрингии, прирейнских земель и самой Дании, их по мере сил стали выдавливать германцы, начиная еще с готов, сильно подрезавших в IV в. с запада и юга славянский ареал.
Южные, центральноевропейские и западные славяне не могли больше вести экспансию на юг и запад, перед ними встала другая задача: сопротивляться захвату их земель и последующему подчинению, порабощению и ассимиляции со стороны германцев. Для них уже с IV в. начались долгие столетия упорной борьбы (с переменным успехом) за выживание, самотождественность и т. д. Многие славянские племена и даже народы так и сгинули в этой борьбе. Отступать/наступать на восток они тоже не очень-то могли: для этого пришлось бы вести войну на два фронта: с германскими, к примеру, захватчиками на западе и с восточнославянскими автохтонами, впоследствии русскими. Кстати, полякам уже с Х века, а в дальнейшем и литовцам избежать этой участи не удалось.
Восточным славянам, неуклонно растущим в числе, путь на запад оказался закрыт по той же причине. В результате они двигались по пути наименьшего сопротивления – все дальше и дальше на восток (лишь много позже – при Олеге, Игоре, Святославе и Владимире – началось движение также и на юг). Двигались всем долготным фронтом, сохраняя при этом те этногенетические особенности своих популяций (племен, попросту), которые сложились со времен склавинов и антов. Продвигаясь с запада на восток, племена тянули за собой генетический шлейф в том же, естественно, направлении11. Отсюда именно широтная генетическая изменчивость – основная русская биологическая особенность как этноса. Со временем эти племена подпадут под власть «варягов-руси» (Рюрика со товарищи) и станут русскими.
Процессы как славянского, так и русского этногенеза происходили не без участия иноэтнических субстратов, в первую очередь – кельтского и финского (на востоке, отчасти на севере и в центре Русской равнины), иранского и фракийского (на юге). Нужно правильно понимать сущность и масштабы этого участия: палеоевропейский пласт являлся в той же мере протофинским или протоиранским, в какой и протославянским. Это во-первых. А во-вторых, судя по археологическим данным, на территориях, предназначенных историей к ославяниванию, финский субстрат существовал по большей части в виде небольших родов (даже не племен, не то что народов), редко распределенных по берегам водоемов и далеко отстоящих друг от друга. Оставив свой след в славянском генофонде, они не сделали его, за исключением прибалтов, качественно иным, неславянским; субстрат растворился в суперстрате. А поскольку все названные субстраты – суть потомки кроманьонца, белые европеоиды, то в данном случае следует говорить не столько о метисации, сколько о реверсии – восстановлении исходного для всех участников вида.
В принципе, любая изменчивость может (а значит должна) быть градуирована, но для этого должна быть точка отсчета, в нашем случае – эталон русскости. Он обнаруживается в непосредственно граничащей с Россией близи: это белорусский этнос. Балановские формулируют это наблюдение так: «Если те же самые карты классических маркеров рассмотреть с точки зрения карты расстояний от русских, то мы увидим, что белорусы куда более похожи на русских, чем многие русские!.. Самый тонко дифференцирующий генетический маркер – гаплогруппы Y-хромосомы – показал удивительное сходство генофондов белорусов, поляков и западных русских»12. Западных – то есть, прямых потомков летописных племен в ареале их исконного расселения.
Итак, понятно первое и главное: русские есть этнос славянского суперэтноса белой европеоидной расы. Это прежде всего.
* * *
2. Прояснив для себя тезис о бесспорно славянской основе русского народа, проясним также и тезис о его сложносоставной природе.
Что собой представляли славяне, сложившиеся к VI—IX вв. на Восточно-Европейской равнине? Весьма генетически гетерогенный контингент, представленный различными племенами. Изначально не вполне тождественные друг другу, они двигались, в основном, с запада на восток, и каждое племя тянуло за собой «затяжку»: шлейф своих – и только своих – признаков-маркеров. Вятичи – своих, кривичи – своих и т. д.
Двигались, видимо, не все и не всё время. Оставались более-менее на своих местах балтийские славяне, а также лютичи, бодричи, пруссы, ляхи, уличи, тиверцы, хорваты, дулебы и др., не пошедшие дальше на восток. Больше продвинулись поляне, древляне, северяне, радимичи, дреговичи, но и они не дошли до областей плотного проживания финнов, осели там, где показалось хорошо, а дальше не пошли. Непрерывно двигались на восход только словене, кривичи и вятичи.
На полпути они встретили финские роды и племена – и началась активная реверсивная метисация, более-менее мирная, судя по финскому и русскому эпосам, не отразившим никаких этнических войн наших народов. Впрочем, исходя из размеров древних финских городищ, среди которых максимальным считается 70 х 50 м2, речь следует вести не о племенах, как уже сказано, а лишь о семьях и родах13, во многих из которых дивергенция уже сменилась своей диалектической противоположностью – реверсией единого праевропейского типа под видом метисации, ассимиляции. Ассимилировали, конечно, более многочисленные и культурные славяне – более отсталых и малочисленных финнов и литовцев, причем без их истребления и даже выселения14. Финская топонимика – реликт той эпохи. При этом «племена северной лесной полосы искони были протославянскими», а также «Припятская, Деснинская и Верхнеднепровская (главным образом западная ее часть) области были основными землями протославян»15.
В итоге финский субстрат (в том числе уже давно смикшированные народы финно-монголоидного происхождения) оставил на пути этих племен всевозрастающий след с запада на восток вплоть до Урала. Всевозрастающий, но далеко не все определяющий.
Процесс этой первичной ассимиляции в северной лесной зоне заканчивался, когда в VI веке значительная часть антов покинула свой исконный ареал (Прикарпатье, Среднеднепровье и др.) и ушла на юг и восток искать счастья с ордами гуннов и аваров, чтобы затем раствориться, порой без следа, среди других народов. Еще часть ушла по найму служить в Византию – и тоже не вернулась. В образовавшуюся нишу хлынули с севера их более дикие родственники, склавины. Благо политическое объединение с антами на почве сопротивления вначале готскому нашествию, а впоследствии аварскому каганату (т. н. Волынский союз) уже давно состоялось. Самостоятельная цивилизация антов, на пороге которой они стояли, в результате так и не сложилась. Культуре «полей погребальных урн» пришел конец. Анты так и не завершили свой процесс этогенеза, не стали отдельным самостоятельным этносом, народом. Поглощенные склавинами, разлившимися на всем ареале исторического ареала проживания антов, они кристаллизовались затем в виде т.н. «летописных» славянских племен.
После 602 г. этноним «анты» в источниках не упоминается. Однако генетический след в виде иранского, фракийского или кельтского субстрата на территориях, где проживали анты, конечно же, остался. Он, в частности, просматривается в современных украинцах.
Таким образом, мы, русские, изначально суть сложносоставной микст, причем древнейший, с индоевропейских времен. Два основных процесса – дивергенция кроманьонско-индоевропейской ностратической общности на отдельные протоэтносы и реверсия это общности на основе метисации и ассимиляции оных протоэтносов – определяли расово-антропологическую сущность данного микста. Микста, подчеркнем, слитного, давным-давно сложившегося на славянской основе как целое, как единая данность – совокупность славянских племен с незначительным иноплеменным подмесом.
Русскими же славянские племена стали, будучи объединены властью русов, руси, олицетворенных династией Рюриковичей. Тысяча лет многообразной нивелировки и взаимных миграций, иногда вынужденных властью, – вот наш, русский путь этногенеза. Осознанная централизованная политика единения, а не стихийная метисация с другими этносами лежит в его основе.
Благо язык, сначала старославянский, затем древнерусский, оставался все время общим, хотя и подразделенным на северные и южные диалекты. Важно подчеркнуть – и это не случайно сделано в вышеприведенной формуле русскости – не только биологическую, но и языковую основу русского народа. Это делается для того, чтобы отличать наш народ от таких же потомков летописных славянских племен, какими являются белорусы (безусловно) и украинцы (в значительной мере).
Политика единения проводилась центральной властью успешно. Об этом ясно говорит тот факт, что на базе тех или иных племен не возникли отдельные народы. Ни в субэтносах русского народа, ни в отдельных частях этих субэтносов вплоть до ХХ века не вспыхнули самостоятельные этногенетические процессы. Вначале их гасила инерция экстенсивного развития – движения, миграции на восток: субэтносы просто не успевали концентрироваться. Впоследствии этому препятствовала объединительная политика киевских, а пуще того – московских князей и царей, использовавших, в том числе, принудительное массовое переселение подданных (например, новгородцев, псковичей и смолян – в Подмосковье и наоборот, подмосковных русских – в Новгород, Псков и Смоленск). Сильно изменило генетическую карту русских татарское нашествие, ведь поляне, господствовавшие на Киевщине, бежали от страшного врага на остров Хортицу и на Север: на Мезень и Печору, в Каргополь, на берега Вятки и т. д. Племена при этом порой перемешивались, роднились между собою, что и дало в итоге возможность на всей территории России образоваться не многим народам вроде курян, вятичей, москвичей, смолян, новгородцев и т.д., а одному народу. Русскому.
Да, русские местами – не совсем чистые славяне (хотя чистые европеоиды) по меньшей мере с III—V вв., а вероятно и с более ранних времен. Но в этом нет угрозы нашей этничности, которая вовсе не обязана быть стопроцентной. Надо понимать главное: самое раннее с XII, а самое позднее с XIV века мы де-факто уже существуем как сложившееся единое этническое целое. (Де-юре этот факт оформился в 1549 году на Первом Земском соборе.)
Да, мы сложносоставной, но при этом единый народ с общей восточнославянской биологической основой. И какой бы то ни было субстратный след в нашем генофонде невелик и уже давным-давно потерял для нас всякое значение, кроме чисто академического. Русские – не «нация мигрантов», как североамериканцы, и не «нация метисов», как латиноамериканцы. Для России именно и только русские служат единственным титульным и государствообразующим народом, единственной действительной и неложной скрепой страны. С 2020 года этот факт отражен и в Конституции России.
Таким образом, значение таких понятий, как «русские», «русский народ», «русский этнос», теперь полностью разъяснено.
1
Подробности, включая историю вопроса, можно найти в кн.: 1) Элез А. Й. Критика этнологии. – М., Наука/Интерпериодика, 2001; 2) Севастьянов А. Н. Основы этнополитики. – М., Перо, 2014.
2
См.: Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. – М., ФЭРИ-В, 2006.
3
Достаточно, к примеру, провести день в шестиэтажном Музее Бранли в Париже, где собраны артефакты Африки и Океании, чтобы ощутить и осознать, что европеоиды и негроиды суть разные биологические виды, не покрываемые общим таксоном homo sapiens sapiens.
4
Беляев С. С. Гумилев сын Гумилева. – М., Астрель, 2012. – С. 333.
5
Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. – М., «ФЭРИ-В», 2006. – С. 14.
6
Беляев С. С. Гумилев сын Гумилева… – С. 719—720.
7
См.: Александр Севастьянов. Диалектика русского этноса, или в поисках русского генофонда. (Рецензия на книгу: Е. В. Балановская, О. П. Балановский. Русский генофонд на русской равнине. – М., Луч, 2007. – 416 с., илл.). – Вопросы национализма, №№8—9, 2011—2012.
8
Е. В. Балановская, О. П. Балановский. Русский генофонд на русской равнине. – С. 139.
9
Этим понятием – «славянский суперэтнос» – мы сегодня обнимаем большую группу народов: русские, белорусы, украинцы, поляки, чехи, словаки, словене, сербы, хорваты и др.
10
По оценкам специалистов, это произошло примерно 15 тыс. л.н.
11
Е. В. Балановская, О. П. Балановский. Русский генофонд на русской равнине. – С. 142.
12
Е. В. Балановская, О. П. Балановский. Русский генофонд на русской равнине. – С. 301.
13
Летописная фраза «и восстал род на род» совершенно точно отражает эту фазу этногенеза.
14
См. об этом: Егоров В. Л. Сложение полиэтнического древнерусского государства. – Археологический сборник. Труды Государственного Исторического музея. Выпуск III. – М., 1999. – С. 82—91.
15
Мавродин В. В. Указ. соч., с. 93.