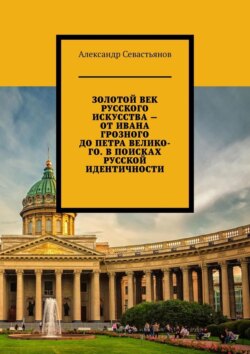Читать книгу Золотой век русского искусства – от Ивана Грозного до Петра Великого. В поисках русской идентичности - Александр Никитич Севастьянов - Страница 14
1. ВЕЯНИЯ ВОСТОКА И ПРАЗДНИК РУССКОЙ ДУШИ
Оружие
ОглавлениеК теме текстиля и одежды близко примыкают две другие: тема лицевого шитья, поскольку речь идет о материале, и тема вооружений, поскольку речь идет о внешнем облике русских людей. Однако лицевое шитье – настолько оригинальный вид русского искусства, что говорить здесь о восточных влияниях (если не иметь в виду православный Восток) не приходится. Иное дело – оружие, где эти влияния проявились едва ли не максимально.
Особая, сугубая и трегубая важность оружейной темы очевидна; это отразилось на объеме данного раздела. Во все века оружейное дело служило не только локомотивом прогресса, но и индикатором цивилизационного развития этноса, нации. И ориентация на мировых лидеров была здесь важна, как нигде более. Ведь речь шла не просто об отвлеченной красоте: от совершенства русского оружия напрямую зависела жизнь и свобода нашего народа.
О том, как и чем вооружались русские люди в XVI—XVII вв., дают представление как гравированные изображения, встречающиеся на географических картах и в посвященных России книгах, так и письменные источники, и даже некоторые иконы173. А кроме того, в музеях России хранятся многие дошедшие до нас подлинные образцы. В целом этот вопрос изучен весьма полно и подробно, имеется обширная литература174. В нашем случае, коль скоро объект внимания – оружие именно как искусство, чрезвычайно ценным является описание образцов высокохудожественного оружия, хранящегося в Оружейной палате Московского Кремля175 (ссылаясь на этот источник, я буду использовать абревиатуру ОПМК и номера по каталогу).
Оружие той или иной социокультурной группы – важный этноразграничительный маркер, позволяющий заявить о национальном своеобразии. Яркие примеры – бумеранг аборигена Австралии, турецкий ятаган, японская катана, непальский кукри или яванский крис, но подобных примеров можно привести множество.
Вооружение Руси (руси) времен князей Святослава Хороброго, Владимира Святого, Ярослава Мудрого мало отличалось от европейского – во многом из-за тесного общения русских с викингами, варягами, но в еще большей степени из-за общности происхождения от одного европеоидного корня. Хотя, скажем, такой закованной в латы конницы, как византийские катафракты, русское войско не знало, но что касается романского Запада, тут, как уже говорилось, технологического либо эстетического противоречия не наблюдается.
Но уже в конце домонгольского и в ордынский период русское вооружение в целом отмечено бросающимся в глаза своебразием. Оно теперь совсем не было похоже на вооружение людей Запада, разительно отличалось от него, причем все больше век от века. Русские витязи не носили таких шлемов с забралами, как западные рыцари, не прятали в кольчугу все тело с головы до пят. Мы в массе своей не знали поножей, обходясь сапогами, не одевали кованые латы, защищающие ногу от паха до носка. Правда, использовались т.н. бутурлыки, кованые поножи, защищающие голень и икру, но крайне редко, а наколенники и того реже. На картине Павла Корина фигура Александра Невского, закованного в броню с головы до пят, чтобы производить впечатление вылитого из стали героя, не соответствует в целом исторической правде именно из-за этого: ноги русского князя никогда не могли бы выглядеть, как у немецкого рыцаря176.
Вообще, достаточно поставить рядом манекены, одетые один – в воинский наряд русича, а другой – в рыцарский доспех или в костюм ландскнехта, и вопрос о различии традиций и вкусов решится сам собой ввиду полной очевидности177.
Отличия русского вооружения от западноевропейского можно перечислять долго. У древних русичей чаще использовалась иная, чем у европейцев, форма щита – круглая или перевернутая каплевидная178, мы не изготавливали двуручных мечей, «пламенеющих» клинков. Мало или почти совсем не применялись арбалеты (запрещенные папой римским как оружие исключительно антигуманное, они, однако, были штатным вооружением всех западных войск). Зато русская конница, как и татарская, в обязательном порядке имела на вооружении луки, чего не было на Западе. Очень популярны в западных армиях были алебарды всех сортов – гизармы, глефы и проч., но в русской армии мы их не видим практически вообще. У русской же пехоты были широко распространены рогатины и топоры, у конников – легкие топорики, которых, напротив, мы не видим у рыцарей. В XVI веке у нас появляются бердыши, не популярные ни у каких других народов, – своеобразная трансформация боевой секиры, постепенно удлиннявшейся, в том числе в части лезвия179, снабженного двузубым навершием наподобие вилки (оно служило опорой для пищали), скважинами и орнаментом по лопасти. Правда, историки оружия отмечают их сходство с ранними европейскими алебардами конца XIII – начала XIV вв., но временной разрыв таков, что говорить о каком-то заимствовании не приходится. Первые упоминания о бердышах относятся к последнему этапу Ливонской войны; во второй трети XVII века они уже становятся типовым массовым вооружением стрельцов, более эффективным, чем простая сабля. На Западе широко использовались разные кинжалы, в том числе очень своеобразные, специальные: даги, мизерикордии, стилеты и т.п., у русских же они не были распространены, хотя мог использоваться подсаадачный нож, длинный, граненый и без гарды, как большое шило, не имеющий аналогов в Европе. Характерной приметой русского воина было древковое ударное оружие – разнообразные булавы, шестоперы, перначи, клевцы и чеканы у конников, а у простонародья – самодельные палицы-ослопы. То же можно сказать и о гибко-суставчатом оружии: кистенях (с рукояткой), «гасилах» (простая петля с гирей, без рукоятки) и боевых цепах. И т. д.
Словом, можно с уверенностью говорить о глубоком своеобразии русского боевого холодного оружия по сравнению с западным, с которым нас роднит только одно: основным вооружением пехоты в бою было длинное копье180. Но этот общий момент не является стилеобразующим, поскольку имеет, скорее, всемирный характер. А уж что касается внешнего вида, облика воинов всех сословий, то уже ясно, что он был совершенно различным у них и у нас. Соответственно, мы можем говорить о том, что западные веяния до XVII века практически не затронули данную область русской жизни.
Чем объяснить все эти яркие отличия русского вооружения от западноевропейского? Ведь, казалось бы, взаимовлияние было неизбежно, поскольку вооруженные столкновения Руси с Западом (не говоря о Византии) начались как минимум в Х веке, а значит было чему друг у друга учиться, было что перенимать. Но – нет, общий стандарт в течение целых семисот лет так и не сложился, у русских людей господствовали явно другие эстетические и практические предпочтения, чем у людей Запада, для них военный костюм западного соседа оказался органически (!) чужд.
Только с середины XVII века, в ходе русско-польских, русско-шведских войн, по мере создания регулярного строевого войска рейтарского типа, на тульско-каширских заводах стали изготавливаться западного образца кирасы, латные юбки, каски, шлемы, шпаги и проч. Но для основной массы войска это и тогда еще было нехарактерно. Впрочем, о нашей вестернизации – в своем месте.
А как обстоит дело с веяниями Востока? Прямо противоположным образом..
С приходом монголо-татар наши отличия от военного снаряжения Запада стали только усугубляться. Вобравшее в себя лучшие достижения китайской (в том числе тангутской, чжурчжэньской181) научно-технической и военной мысли, монгольское войско сегодня справедливо считается самым совершенным и лучше всех оснащенным в тогдашнем мире. Но все дело в том, что империя Чингисхана и его сыновей выступила вовне главным представителем китайской мегацивилизации вообще, ее ударной силой. Своеобразным – воинствующим и агрессивным – осуществителем именно китайской, по внутренней сути, заявки на мировое господство. Ведь то была первая прямая и открытая война Востока с Западом, настоящая война рас, и военное столкновение наглядно показало превосходство монголоидного Востока над европеоидным Западом. (Не в первый раз, замечу: китайцам приходилось громить римлян еще во II веке, когда их арбалетчики уложили два легиона, слишком далеко продвинувшиеся в зону китайских интересов.)
Волею судеб Русь оказалась восточным форпостом Запада в этом столкновении китайской и европейской цивилизаций. И приняла на себя первый, самый страшный удар. Преимущества восточного вооружения перед русским (а чуть позже и перед западным) были проявлены тогда столь наглядно и убедительно, что скоро стали активно перениматься нашими предками. Полнее и раньше, естественно, чем где-либо еще в Европе.
Для нашего исследования первостепенное значение имеет эстетический аспект вооружений, нам важно знать, как внешне выглядели, на что и на кого были похожи одетые в доспехи и снабженные оружием русские люди, как сочетались в их облике черты восточного, западного и самобытного русского происхождения. На этом и будем акцентировать внимание.
В соответствии с современной классификацией оружие разделяется на оборонительное и летальное (смертоносное). Итак…
* * *
Смертоносное оружие. Начнем с холодного, наиболее употребительного в те далекие века. Как мы помним, в домонгольской и Ордынской Руси в большом количестве производились высококачественные мечи, в том числе и на экспорт, поскольку их достоинства высоко ценились даже на Востоке. Правда, в северных регионах, напротив, был распространен импорт мечей с Запада. Примером чему служит превосходно сохранившаяся региональная псковская реликвия «меч Довмонта», единственный средневековый меч в музеях России, чья «биография» подтверждается летописными сообщениями. Меч в длину составляет 90 см., красивый, прямой, как игла, колюще-рубящий клиновидный клинок клеймен в немецком городе Пассау (Нижняя Бавария), обвитая проволокой из позолоченного серебра рукоять была украшена крупными драгоценными камнями. Владельцем меча был Довмонт-Тимофей, псковский князь (1266—1299), «муж доблести и чести безупречной, на немец лютый до смерти», в XVI веке причисленный к лику святых. С 1272 г. этот меч – символ победы над крестоносцами – висел перед главным алтарем Троицкого собора в Пскове. Вид этого княжеского меча смело можно назвать общеевропейским, ведь русские мечи подобного вида также были у нас в ходу.
Сабли, саадаки, булавы и др. Вскоре после начала монголо-татарского нашествия мечи на Руси стали быстро вытесняться саблями как более совершенным и эффективным оружием, полностью господствовавшим в войске пришельцев. И в Московском царстве в XV веке мечи уже практически не применялись в бою. Но сабля – вид оружия безусловно восточного происхождения, и ее родовые характеристики изначально и до XVIII века сохраняли печать Востока, даже те, что импортировались к нам из стран Восточной Европы (Венгрия, Польша). А в Западной Европе в том же XV веке изредка появлялись – нет, пока еще не сабли – но несколько искривленные обоюдоострые мечи, фальшионы (от латинского falx – коса) и гросс-мессеры, которые лишь спустя сто-двести лет, под воздействием боевого соперничества с Турцией, преобразуются в сабли с тяжелым клинком и корзинчатой гардой. Но очень скоро их совершенно затмит и вытеснит шпага. Крестоносная же эпопея, в продолжение которой европейцы близко познакомились с восточной саблей, не произвела революционных перемен в европейском вооружении, как это сделало татарское нашествие на Руси. И сближения в облике русского и западного воина на данной почве не произошло.
Итак, сабля в XV веке стала основным русским оружием. При этом более всего ценились булатные клинки, изготовленные на родине этого сорта оружия. Ведь в холодном оружии самое главное – это клинок, а в клинке самое важное – это сталь, а среди всех видов оружейной стали первенство несомненно принадлежит булату182. Лермонтов недаром написал о кинжале: «Булат его хранит таинственный закал – наследье бранного Востока». Именно там родился секрет как тигельного, так и сварочного булата.
Первый тип, именуемый «вутс» («лепешка», по-русски «крица»), – это литой булат. Он изготавливается путем варки в тигеле смеси сортов железа с разным содержанием углерода; такой булат имеет определенный рисунок внутренней структуры, одинаковый, в каком бы направлении ни разрезать эту «лепешку». Индо-арии научились делать вутс задолго до нашей эры; это технологическое преимущество (ноу-хау) позволило им, в частности, одолеть и изгнать из Индии Александра Македонского. Секрет тигельного булата был недоступен европейцам. Только в XIX веке его разгадал русский инженер П. П. Аносов на базе оружейных мастерских Златоуста. А до того тигельный булат поступал на рынок, в том числе в Россию, только из Индии и Персии, как в готовых изделиях, так и в слитках, вутсах-крицах.
Второй тип изготавливается путем многократной перековки и скрутки нескольких сваренных между собой полос железа, опять-таки с разным содержанием углерода, – это сварочный булат. Рисунок такого булата очень красив и разделяется по сортам: полосатый, струйчатый, волнистый, сетчатый, коленчатый183. Самый высший сорт – коленчатый «кара-табан», с равномерно повторяющимся прихотливым рисунком спутанных серебристых нитей на черном фоне. Этот рисунок повторяется раз за разом – «коленами» – до сорока раз, образуя в этом случае «кирк нардубан» – «сорок ступеней» или «лестницу пророка». Стоили подобные клинки очень дорого, порой табуны лошадей; в ГИМе хранится небольшая сабелька из «кара-табана», подаренная царю Алексею Михайловичу персидским шахом.
Основным рынком, на котором европейцы покупали изделия из булата, был Дамаск (Сирия), славившийся производством оружия со времен Римской империи. Отсюда и возникло название «дамаск», «дамасская сталь», которое часто употребляется в отношении булатной стали независимо от ее качества и происхождения. А порой производится «дамаскировка» обычной стали, путем наведения характерного рисунка с помощью травления; подделывать дамасскую сталь пытались и в Европе, и в России184, где качественный булат изготавливать самостоятельно не могли, а могли лишь перековывать восточные клинки и полосы для собственных нужд.
Итак, констатируем: именно восточные технологии изготовления холодного оружия были в средневековом мире непревзойденными, лучшими. И пока это было так, ориентироваться на Запад русским людям не было никакого смысла. И наоборот: ориентация на Восток была насущной жизненной необходимостью. Русское правительство это хорошо понимало. В Расходной книге Оружейной палаты за 1625 г. записано, что мастер Оружейного приказа Тимофей Лучанинов пожалован отрезами венецианской тафты и английского сукна по возвращении из Персии, куда был послан «для наученья пищального и сабельного дела». Позднее, «в 1660 г. <…> троих учеников, снабдив деньгами на дорогу и проживание, отправили в Астрахань для обучения у местных мастеров секретам изготовления булатных клинков и панцырей»185.
Мало того, опытных оружейников, способных передать русским свои умения и знания, приглашали работать в Оружейную палату; официальные документы XVI и, особенно, XVII вв. упоминают многих мастеров как с Запада, так и с Востока186.
В чем-то опыт научения был, безусловно, успешным. В архивных описях Оружейной палаты нередко встречаются такие формулировки в отношении работ русских оружейников: ««на турское дело», «на кызылбашское дело» – это значит, что русский мастер выполнил свою работу по турецкому или иранскому образцу. Такого рода формулировки (варианты: «на турский выков», «на кызылбашский выков») чаще встречаются в описаниях холодного оружия: Россия раньше других европейских стран восприняла саблю и оценила ее боевые возможности. (Д. Флетчер отмечал сходство русских сабель с турецкими в конце XVI в., но изобразительные материалы первой половины XVI в. также отчетливо фиксируют это сходство.) Поразительные по качеству сабельные клинки, напоминающие работы лучших восточных мастеров, исполнял мастер первой половины XVII века Тренка Окатов (Акатов)»187.
Вполне очевидно, что до указанного времени «русский булат» как таковой не мог существовать в природе, иначе к чему было посылать учеников? Но возникал ли он в дальнейшем, до изобретения Аносова в XIX в. – нерешенный вопрос. Возможно, мастера возвращались из Персии, овладев секретами производства булатов, а возможно – продолжали перековывать привозной дамаск, секрет изготовления которого им не раскрывали ни персы, ни арабы, ни другие владевшие им народы Востока. Последнее мне кажется ближе к истине. Во всяком случае, как пишут специалисты: «Особенно много клинков с отличными боевыми качествами поступало из Турции и Ирана. В мастерской Оружейной палаты было налажено специальное производство по изготовлению рукоятей, оправ и монтировке знаменитых восточных клинков»188. При этом подчас импортировались даже некоторые нужные материалы: «Ящеры для отделки сабельных рукоятей и ножен покупались в Персии или выписывались из Астрахани… Они должны быть „гораздо зернисты и белы“»189 (шкурки больших варанов использовались как галюшá – шлифованная шкура акул и скатов, которыми на Дальнем Востоке обтягивали рукояти мечей, кинжалов и т.д., чтобы не скользила рука).
Ясно одно: восточное оружие было для русских образцовым. Однако турецкую и тем более персидскую саблю мог себе позволить далеко не каждый. Разница в цене между отечественными и импортными саблями была очень существенной. Если полоса персидской булатной стали в середине XVII века стоила 3—4 рубля, то тульская сабля из передельной стали190 – не дороже 60 копеек. Но это и понятно: ведь булаты отличались исключительной упругостью, прочностью, они великолепно держали заточку и даже обладали свойством самозатачиваемости, в то время как передельная сталь была либо мягкой, либо хрупкой, ломкой, и заточку держала отвратительно.
Привозные сабли были, как правило, трех типов: турецкие, персидские (шамширы) и польско-венгерские. Турецкие, как правило, характеризуются длинным (до 93 см), крупным и тяжелым, широким в обухе и полотне клинком с сильным изгибом в середине и ярко выраженной елманью (расширением в нижней трети клинка). Рукоять с длинным (до 22 см) перекрестьем часто имела массивное шарообразное навершие. На клинке, зачастую вовсе гладком, иногда выбирался один широкий, но неглубокий дол. Интересно, что такой ярко национальный тип турецкого холодного колюще-рубящего оружия, как ятаган, не прижился и не получил никакого распространения на Руси. Видимо, заложенная татарами традиция сабли настолько «обрусела», что не терпела конкуренции.
Персидская сабля или шамшир была другой: клинок относительно узкий, как правило без долов, длиной до 86 см, слабее изогнутый, утончающийся в последней трети конусовидно, без елмани; ручка легкая, обложенная чаще всего костью, с небольшим перекрестьем и сильно загнутым (под 75—90º) навершием, на который крепился род колпачка из серебра или иного металла. Есть мнение, что в шамширах генетически могли сохраняться элементы более ранних сабель ордынского периода. Шамшир более универсален в употреблении, чем турецкая сабля, которой очень хорошо рубить, но совсем не так хорошо колоть.
Третьим типом сабель являлись так называемые польско-венгерские, распространившиеся в Смутное время через польских интервентов. Их характеризует довольно равномерной ширины и некрутого изгиба клинок, изредка с небольшой елманью, и небольшая широкая рукоять, не имеющая в навершии упора, но довольно сильно наклоненная по отношению к клинку. Однако польско-венгерский тип сабель не слишком оригинален. Есть основания полагать, что венгерская сабля родилась как тип оружия в XV веке под воздействием турецкого нашествия (по аналогии с русской саблей, родившейся при решающем участии татар), а уже венгерская сабля повлияла затем как на становление польской сабли, так и на аналогичные клинки, изготовлявшиеся в Московии.
Как видим, основной вид смертоносного колюще-рубящего русского оружия – сабля – на всем своем историческом пути от самого зарождения всецело, прямо или опосредованно, был обусловлен Востоком.
К сему стоит добавить, что с Востока пришел такой вид вооружения, как дротики. Восточного (татарского) происхождения был также комплект из налуча и колчана, именуемый «саадак». Саадаки были обязательной принадлежностью конного воина.
И – что интересно – влияние Востока преобразило даже такой традиционный вид русского ударного вооружения, как булава. Дело в том, что от домонгольского и ордынского периода сохранились только булавы-брусы, в то время как в России XVI—XVII вв. были в употреблении т.н. грушевидные булавы, чье появление связывается с турецкой военной традицией. Такого типа булавы «восточных форм» вначале, что естественно, стали популярны в Венгрии еще в XV веке, а затем уже в Чехии и Польше. Ну, а позднее транзит дошел и до нашей страны.
Другой вид ударного древкового оружия – боевой колюще-дробящий молот клевец или чекан – распространился в России к концу XVI века под влиянием, опять-таки, венгерско-польских образцов, бывших на вооружении у гусар. Этот род войск появился в Венгрии в 1548 г., а при польском короле венгерского происхождения Стефане Батории (1533—1586) сделался главной ударной силой польского войска. Клевец особенно эффективен против любого сорта латников. Русские, хорошо узнав его возможности в ходе Ливонской войны и осады Баторием Пскова, кое-что полезное переняли для себя. Но происхождение клевца не обязательно связывать с Европой. Древнейший вид оружия, он был известен еще до нашей эры скифам, а позже был распространен в Китае, Индии, Персии…
* * *
Огнестрельное оружие. Этот прогресивный вид вооружения, изменивший ход истории, появился на Руси давно, во всяком случае уже в 1382 году, во времена Дмитрия Донского, «тюфяки» употребляли при обороне Москвы от Тохтамыша. Спрашивается: откуда это оружие к нам явилось: с Запада или Востока? Из Европы (известно, что немцы в 1389 году поставляют пушки в Тверь191, а в 1393 и 1410 гг. дарят пушки великому князю)? Или, может быть, из Азии (волжские булгары использовали «огненный бой» при обороне города от русских еще раньше, в 1376 году, да и само слово «тюфяк» восточного происхождения: старинное азербайджанское «тюфенг», татарское «тюфнек» обозначает ружье)?
Есть обстоятельства, позволющие думать, что владение огнестрельным оружием составляло важную часть европейского прогресса, причастность к которому помогла русским справиться с вековым врагом – татарами. Артиллерия (тюфяки и пищали) сыграли решающую роль во время Стояния на Угре в 1480 г., впервые обозначив явное боевое превосходство русских над татарами. Впоследствии это же преимущество помогало нам брать Казань, отбивать крымскотатарские нашествия…
Однако на поверку вопрос о приоритете Запада и Востока в развитии огнестрельного оружия (в частности русского) оказывается совсем не прост. Казалось бы, есть надежный критерий, по которому можно определиться в этом вопросе: изобретение пороха, без которого не было бы ни ручных пушек, ни бомбард, ни всего последующего огнестрела. Но и тут все неоднозначно192.
Дело в том, что изобретение пороха, приписанное некогда Константину (в монашестве Бертольду) Анклитцену, по прозвищу Шварц («Черный»), осуществившему свое открытие около 1330 года, состоялось в действительности задолго до него. И боевое использование пороха – тоже. И не в Европе, а в Азии.
Сам по себе черный порох (смесь серы, угля и селитры) был открыт китайцами, возможно, уже в IХ веке, он был еще некачественным, с его помощью делали лишь фейерверки. Но в XII—XIII вв. порох уже успешно применялся в военных целях некоторыми монголоидами, обретавшимися так или иначе в орбите китайской цивилизации. В самом Китае в период монгольского завоевания также использовались пушки, выточенные из единого ствола дерева, усиленного железными обручами. Они стреляли толстыми стрелами193. Кроме того, там стали применять для стрельбы из мортир разрывные снаряды уже не с глиняным, а с чугунным корпусом. Документально зафисировано также, что осажденные монголами в Кайфыне китайцы в 1232 году пытались отбиваться от них с помощью пушек, стрелявших каменными ядрами, и употребляли при этом разрывные бомбы, петарды и другие огнестрельные боеприпасы, созданные на основе пороха.
Вопрос о том, насколько монголы способствовали транзиту пороха на Ближний Восток, откуда он уже попал в Европу, является спорным.
Китайско-арабские торговые и дипломатические связи были весьма интенсивными, и в XIII—XV вв. исламская цивилизация уже обгоняла во многом китайскую, попавшую под монгольскую пяту, причем и в области вооружений. О чем свидетельствует, например, факт запрашивания ханом Хубилаем, внуком Чингисхана, в конце 1260-х из Ирана мастеров-артиллеристов, способных делать наиболее совершенные камнеметы. Кроме того, в Китае не было нефти, которой богат арабский Восток. Между тем, у сельджукских султанов уже X—XII вв. были целые подразделения огнеметчиков, так называемых «нефтеметателей» («ан-наффатун»). Однако, поскольку известно из сочинений Ибн ал-Асира, что монголы во время уличных боев «сжигали нефтью» дома в Гургандже, это значит, что технология мусульманских мастеров-огнеметчиков была перенята монголами у сельджуков уже ко времени похода против хорезмшаха (1220)194.
По всей видимости, именно на арабском Востоке произошла окончательная доработка черного пороха, позволившая осуществить качественный скачок и создать артиллерию в принципе. Это связывают с именем выдающегося сирийского ученого химика и инженера Хасана аль-Раммаха (ум. 1294/95). Но сам по себе нитрат кальция (основа селитры, без которой не будет качественного пороха) был известен арабам с VIII в., а способ его изготовления был описан в арабо-сирийских рукописях Х в., о нем писали арабские ученые Аль-Рази, аль-Хамдани, а в 1240 году Ибн аль-Бират. В зажигательных керамических гранатах, применявшихся против крестоносцев в боях 1168 года при осаде Фустата (столицы Египта при Аббасидах), археологами обнаружены следы калийной селитры, а значит – использования черного пороха. Такие же следы относятся ко времени осады Думъята (1218) и к битве аль-Мансура (1249). Против крестоносцев применялись для устрашения и большие пороховые ракеты, которые летели над головами с ревом и искрами, не взрываясь.
В Испании мавры использовали пушки уже в обороне Севильи (1248), а в дальнейшем и Гранады (1319), а также в Альбасетте (1324), в Хуескаре и Мартесе (1325), в Аликанте (1331) и в Альгезирасе (1342—1344).
Так что книга аль-Раммаха, скорее всего, – компилятивный труд, собранный из различных унаследованных ученым источников195. Он, однако, впервые дал образцовое и проверенное соотношение ингредиентов при изготовлении пороха, тем самым оказав решающее воздействие на развитие как ближневосточной, так и европейской196 артиллерии и ракетостроения. (Полустолетием позже этот секрет был повторно открыт Бертольдом Шварцем в 1330-е гг., и только в 1412 году – китайским ученым Хуо Лунг Чингом.)
Труд Хасана аль-Раммаха позволил мамлюкскому султанату Египта создать первую регулярную артиллерию еще в XIII веке. Небольшие передвижные пороховые пушки-мидфа (а также связки петард и привязанные к копьям «искрометалки») были использованы мамлюками в 1260 г. в решающей битве Айн-Джалут, когда впервые надломилась сила монголов, посягавшая на мировое господство. Об этом рассказывают четыре арабских рукописи «Альмакзум»197.
Как раз ко второй половине XIII века относится упадок и конец крестоносного движения. Если в Европе к этому времени и знали что-то о порохе, благодаря приносимой крестоносцами из походов информации, то пока еще явно не как о смертоносном оружии огромной силы, которому будет суждено изменить судьбы мира. Ибо в «Большом опусе» Роджера Бэкона, написанном им около 1267 года для папы Климента, рассказыватся лишь о «детской игрушке, издающей звук и испускающей огонь, которую изготавливают в разных частях света из толченой селитры, серы и орехового угля». Хотя, конечно, игрушке небезопасной: «При помощи вспышки, пламени и ужасного звука можно творить чудеса, причем на любом расстоянии, какое только мы пожелаем – так что человек с трудом может защититься или выдержать это». Отсюда ясно, что до появления европейской артиллерии было еще далеко.
Итак, общее цивилизационное превосходство Востока перед Западом, вполне очевидное еще в XV веке, позволяет утверждать, что огнестрельное оружие зародилось именно там. Но верно ли, что Русь XIV века заимствовала его с Востока, а не с Запада? Где производились наиболее эффективные древние пушки и ружья, секреты производства которых следовало в первую очередь перенимать?
* * *
Артиллерия на Западе. Мамлюки ввели огнестрельное оружие в Египте и Сирии, мавры – в Испании; все они были агентами арабской исламской цивилизации. Оттуда о нем узнали вначале в Италии, далее во Франции и, наконец, в Германии и т. д. Однако европейцам ведь тоже нельзя отказать в изобретательности. Пусть арабы обогнали Европу в создании артиллерии лет на восемьдесят, если не более, но вскоре люди Запада взяли реванш, довольно быстро разработав и создав разного типа огнестрельные орудия.
Самые ранние европейские пушки отмечены источниками в 1331 году (немцы применили их против итальянцев при защите города Чевидале), но считается, что в Италии они появились уже в 1320-е гг. Это, скорее, «пушечки» – малые ручные орудия «склоп» весом от 5 кг и более, стреляющие свинцовой пулей либо стрелой-болтом («карро»), как рекомендовал сам Бертольд Шварц. Но поскольку свинцовые ядра и пули были в XIII в. придуманы арабами на Востоке, то можно думать, что и эти склопы происходят оттуда же. Заряжались пушки XIV—XV вв. «пороховой мякотью», впоследствии пороховыми лепешками и комками.
Чтобы вооружить такими пушечками большое количество воинов, требовалось сделать их еще меньше и легче, но при этом увеличить их убойную силу. В этом направлении и заработала европейская инженерная мысль: к примеру, в 1364 году город Перуджа закупает у оружейников «500 пушек длиною в ладонь, пробивающих доспех».
В 1330-е годы подобные пушки появились у немцев, затем у французов и англичан, и т. д. Их значение весьма скоро стало существенным. Так, в хрониках осады Пизы в 1370/1371 г. отмечено, что «на стенах стояли добрые арбалетчики и много бомбард» (у осаждающих же была одна, зато огромная бомбарда, на перезарядку и прицеливание которой требовались… сутки).
Ручные бомбарды использовали и в полевых сражениях. Так, в 1382 г. на поле Беверхоутсфельд встретились войска города Гент с войсками города Брюгге, обоюдно вооруженные такими пушками. В битве вначале «брюггцы стали стрелять в них из пушек; и тогда гентцы разрядили в тех три сотни пушек одним залпом, и обошли их… и ворвались с криками „Гент!“ в их ряды», – сообщает хроникер Столетней войны Жан Фруассар. Брюггцы бежали.
В 1380-х гг. такие ручные пушки уже повсеместно используются на Западе. Они являются прототипом скорее аркебузы и пищали (в перспективе ружья и пистолета), чем артиллерийского орудия198.
Параллельно на Востоке и на Западе шло создание серьезной артиллерии, в том числе осадных оудий большого калибра. Технология производства стволов была у арабов более совершенной: они отковывали железную болванку и высверливали ее, а европейцы делать такую работу не могли, поэтому использовали толстые железные полосы, склепанные методом кузнечной сварки и стянутые железными же обручами199. Зато они старались делать стволы побольше. Первые такие артиллерийские орудия, известные тоже как бомбарды, представляли собой как раз большие стволы, положенные на примитивные грубые деревянные лафеты.
Бомбарды использовали не только при осаде городов, но и в поле. Одно из ранних упоминаний об этом – хроники судьбоносной битвы при Креси (1346), где англичане использовали две или три бомбарды; они обстреляли генуэзских арбалетчиков, и те, перепуганные ревом пушек и ядрами, позорно разбежались. Однако еще до битвы при Креси, в 1339 году Эдуард III приказал захватить некие «пушки» из Англии во Францию, а в 1340 году сам пострадал от пушек при осаде Турне.
Дальше – больше. Пушки стали демонстрировать все новые и новые возможности. Первый документально подтвержденный случай, когда применение бомбард заставило осажденных отказаться от сопротивления, произошел под крепостью Одруйк (1377), где, по одним сведениям, бургундское войско использовало против осажденных 140 орудий (Фруассар), а по другим – «9 великих пушек». Через три года считавшийся неуязвимым замок Леонштайн на реке Штайр сдался герцогу Альбрехту III, не выдержав обстрела «невиданными ранее» каменными ядрами из «пороховых ступ» (т.е. крупнокалиберных короткоствольных бомбард). А еще через год при осаде Ауденарда (1382) артиллерия впервые пробивает брешь в стенах укрепления, указывая тем самым на важнейшее направление своего применения в будущем. Когда в 1399 году при осаде курфюрстом Рупрехтом Пфальцским замка Танненберг «великая франкфуртская пушка» всего двумя выстрелами вначале пробивает стену, а затем образует в ней брешь, гарнизон после такого ужаса сдается, а крепость в результате срывается до основания.
Новый вид вооружений стремительно «делал карьеру», его возможности быстро осознали все основные участники великой всемирной войны всех против всех.
В середине 14-го века в Европе уже появились первые предприятия по производству селитры. Во второй половине, ближе к концу XIV века своя артиллерия имелась во всех армиях Запада и многих – Востока, это уже был важный фактор побед, оружие стратегического значения. Его стремились развивать и совершенствовать. Началась первая в истории настоящая «гонка вооружений», конкуренция технологий и инженерных решений. Пушки становились все больше в размере, все мощнее по заряду, они метали все более крупные ядра; в этом направлении работали умы средневековых инженеров. И это приносило желанные плоды.
Инженерная мысль европейцев уже в XIV веке бьется над созданием многоствольных и скорострельных орудий и установок. Так, в 1380-е гг. была создана лондонским мастером Вильямом Вудвордом и закуплена английским королевским арсеналом пушка, которая имела «одно отверстие для больших камней» и «десять других отверстий для свинцовых пулек или больших стрел». Во времена распрей с Каррарой (1375—1387) синьор Вероны использует три соединенные между собой повозки, каждая из которых оснащена 12 «бомбарделями», стреляющими ядрами «размером с яйцо». Таким образом, был возможен одновременный залп из 36 орудий. Впоследствии по данному принципу делались передвижные малокалиберные батареи т.н. «рибальды» (в русском варианте с XVI века «орга́ны», «соро́ки»200), а также европейские «вагенбурги» (т.е. лагерь или «городок» из связанных по кругу повозок) и русские «гуляй-поле», тоже позволявшие стрелять из-за временного мобильного укрытия. В 1409 году в арсенале Вены, например, имелся 40-ствольный «орган».
В XV веке гигантские бомбарды, стрелявшие каменными ядрами весом до 500 фунтов, становятся главной достопримечательностью многих армий. Из бомбард-мортир прославлены такие шедевры, как ковано-сварные «Штейрская бомбарда» (Штейр, Австрия, 1420-е) и бомбарда из города Мец, Франция (ок. 1450), длинноствольные «Бешеная Грета» (Гент, 1435), «Мег из Монса» (Фландрия, ныне Эдинбург, 1449), бомбарда-мортира Мальтийского ордена с острова Родос (1480—1500), а также знаменитая литая бронзовая «Ленивая Матильда» (Брауншвейг, ок. 1410), известная по гравюре 1717 года, и др.
Примерно до третьей четверти XV века ведущая роль в европейском пушечном деле принадлежала Италии, но изготовление больших пушек, тем более в значительном количестве, было весьма затратно и под силу только странам с серьезным государственным ресурсом. Раздробленная на княжества и республики Италия таким ресурсом не обладала. Поэтому следом на первое место по производству орудий выходит Франция, особенно после того, как король Карл VII (1403—1461) первым в мире выделил артиллерию в особый род войск. Ну и, конечно, централизованная мощь Османской империи выдвинула Турцию на первое место в данном вопросе. А к концу века в игру вступила и самодержавная Московская Русь.
Главное достижение европейцев в пушечном деле XV века – освоение новых технологий: отливка цельных стволов любого размера из бронзы, в которых дуло делалось методом глубокого сверления201. Но все эти технологии еще ранее стали применяться на Востоке, в частности в Турции, откуда их перенимала Европа.
Уже к середине XV столетия пушки делают вообще ненужными разнообразные громоздкие и сложные в управлении камнеметные машины, происходит своего рода технологическая революция. А в конце XV – начале XVI вв. пушки повсеместно являются непременным атрибутом сражений как в поле, так и при осаде городов, о чем позволяют судить, например, многочисленные гравюры Ганса Бургкмайра к «Вейскунигу» (1514—1519). Или знаменитый офорт Альбрехта Дюрера «Большая пушка» (1518). Артиллерия еще не стала «богом войны» и «королевой полей», но явно сделала большой шаг в этом направлении. А мощь армий стала во многом определяться артиллерийским парком.
* * *
Артиллерия на Востоке. Развитие артиллерии на Востоке не просто не уступало западному, оно было передовым.
В XIV—XV вв. там происходит главное событие: возвышение и рост Османской империи, которой предстояло покорить арабский мир и стать главным вселенским воинствующим представителем исламской цивилизации точно так же, как некогда монголы Чингисхана, покорившие Китай, сделались главными представителями цивилизации китайской. Последующая 163-летняя война Турции с Европой станет, что вполне естественно, вторым раундом перманентной битвы цивилизаций за мировое господство. В котором основные роли возьмут на себя на этот раз Западная Европа и Османская империя, но временами в ней будет принимать участие и не утратившая пока еще собственных амбиций цивилизация монголоидов в лице, например, Тимура (Тамерлана), разгромившего и пленившего султана Баязида, или тимурида Бабура, основавшего в Индии империю Великих Моголов.
Турки, создав жестко централизованное государство, подчинили себе огромные пространства, населенные многочисленными народами с древней культурой, к тому же демографически избыточными. Они имели в своем распоряжении практически неограниченные ресурсы и вполне могли себе позволить мечты о власти над всем миром, как до них это делали монголы, халифы, Карл Великий, римляне, Александр Македонский… Средством осуществления этих мечтаний было оружие.
Во многом решающим событием на данном пути было завоевание в 1516—1518 гг. арабского Востока, долгие века бывшего цивилизационным лидером всего западного полушария. Турки вначале присвоили, а затем и освоили цивилизационные достижения арабов, и сами стали двигать прогресс. Важно отметить, к примеру, что артиллерия, изобретенная, в сущности, арабами, была к этому времени уже настолько выше развита у турок, что их превосходство над мамлюками в данной области и решило исход дела: Сирия и Египет были присоединены к султанату военной рукой, Алжир добровольно стал вассалом Стамбула.
К тому времени совокупная мощь турецкой артиллерии не имела себе равных в мире. Собственно, осадная артиллерия турок была лучшей уже к середине XV века, и это наглядно проявилось при взятии ими Константинополя в 1453 году. Сегодня во дворике Военно-исторического музея в Стамбуле установлены две поражающие воображение подлинные огромные бомбарды, сохранившиеся от того легендарного штурма202. Они отлиты из высококачественной бронзы сразу с внутренней полостью.
Для того, чтобы сокрушить стены Константинополя высотой до 12 м и толщиной до 7,5 м, требовалось много разнообразных и мощных огнестрельных орудий. Поэтому всего таких огромных бомбард было не менее восьми, а еще у турок имелось единственное в мире «орудие главного калибра» (610 мм), знаменитая медная пушка по имени «Базилика», изготовленная для султана венгерским инженером Урбаном и установленная против ворот Св. Романа203. На позицию 32-тонную громадину доставляли 60 быков и 100 человек; она могла выпустить 4 ядра в день. В течение шести недель велся ожесточенный обстрел города. Как пишет некий Нестор-Искандер, русский свидетель (с турецкой стороны) штурма Царьграда: «… [6 мая] удариша из большие пушкы, и спаде камение много. В другие удариша, и распадеся стены великое место… [7 мая] пакы турки удариша из большие пушкы пониже того места, и вывалиша стены много; и тако в другое и в трете». В итоге Базилика пробила в стене брешь, в развалины хлынули янычары. Турецкая «царь-пушка» не пережила этого штурма и разрушилась сама, успев, все же, выполнить свое предназначение…
Спустя три года, в предпоследней осаде Белграда турецкое войско вновь использовало 12 литых больших бронзовых бомбард, а также множество орудий поменее. Также и при осаде турками в 1480 г. крепости на острове Родос, принадлежащей рыцарскому Ордену госпитальеров, было задействовано «16 великих пушек», которые разрушили несколько башен, стены и дворец великого магистра.
Преимущество турок было в массовом централизованном государственном производстве артиллерийских орудий, каковое могли себе позволить султаны204. К 1510-м годам изготовление турецких пушек, в основном легких, уже исчислялось сотнями единиц в год. И не только в Стамбуле, где располагался главный пушечный завод, но и в провинциях. Турки также первыми начали в середине 1510-х гг. производство крупных литых железных орудий, в то время как в Европе таковые представляли собой лишь мелкие единичные образцы. Именно турками была усовершенствована технология литья, устройство плавильной печи (этот секрет исхитил и вывез в 1480 году Йорг из Нюрнберга, подвизавшийся на службе у султана; в те времена Запад воровал технологии у Востока, а не наоборот!).
Наиболее впечатляющим было превосходство турецкой огневой мощи в сражении при Чалдиране (1514, турки выставили до 500 стволов), но главное – в решающей битве на Мохачском поле в 1526 году, где против 85 орудий и 600 «пражских гаковниц» венгерского короля султан Сулейман выставил до 200 полевых орудий и 4060 единиц ручного огнестрельного оружия. Они и решили во многом исход битвы, роковой для всей Европы.
Таким образом, турецкая артиллерия в XIV—XVI вв. не только не уступала европейской ни количеством, ни качеством, но в чем-то и превосходила ее. Турецкие же особо прочные, долговечные и дальнобойные меткие ружья XVI—XVII вв. из витой дамасской стали и вовсе отличались высоким совершенством и славились повсеместно. Так что говорить о каком-либо преимуществе европейского огневого боя над турецким (но только турецким: Персия, скажем, была в этом смысле отсталой страной) не приходится. Все пока еще было наоборот.
Однако европейцы были на этот счет другого мнения – и в этом отразилась эпоха неуклонного наращивания Западом технологической мощи в результате беспрецедентной информационной революции XV века, обусловленной открытием гениального Иоганна Гутенберга. В средневековом немецком стишке утверждалось: «Венеции мощь, Аугсбурга блеск, хитроумие Нюрнберга, Страсбурга пушка, золото Ульма – вот кто миром правит». Обратим внимание: превозносится пушка именно немецкого Страсбурга, а не турецкого Стамбула, арабского Багдада, узбекского Самарканда или хотя бы мавританского Толедо. Наверное, средневековые очевидцы что-то знали и понимали насчет современного им оружия. А скорее – просто предчувствовали всемирный триумф Запада, который уже был не за горами.
* * *
Артиллерия в России. Итак, после этого краткого очерка по истории огнестрельного оружия, мы снова можем вернуться к вопросу: когда и откуда это оружие к нам явилось: с Запада или Востока? На Запад или на Восток следовало ориентироваться русским людям, желавшим побеждать и защищать свои интересы в бесконечной войне всех против всех? Какие характерные особенности в эстетике огнестрельного оружия и откуда именно перешли к нам, русским?
Нет сомнений, что русская власть старалась внимательно отслеживать военно-технические новинки в мире, была в общем в курсе всех главных достижений и стремилась воспроизвести их у себя на Руси. Так было и с огнестрельным оружием.
Начнем с тяжелой артиллерии.
Артиллерия распространяется по всему Востоку во второй половине XIII века, а по всему Западу несколько позже, в 1330-1370-е годы. Судя по летописным источникам, на Русь она попадает в конце это периода, как в одну из стран Запада, но… с Востока. Поскольку самое первое упоминание о неких «громах», которые воины эмира Хасан-хана и ордынского ставленника Мухаммад-Султана испускали в русских со стен города Булгара205, осажденного московско-нижегородским войском воеводы Боброка Волынца, относится к 1376 году. Очевидно, что после взятия города русская армия приняла эти «громы» на вооружение.
Спустя шесть лет, когда в 1382 году карательные отряды хана Тохтамыша осадили Москву, москвичи уже были готовы применить новое оружие. Поскольку, как гласит летопись, около 1380 года «преже всех зделал снасть вогненного бою – ручницы и самопалы, и пищали железные и медные – немец именем Ян». Историк С. М. Соловьев так описывает оборону москвичей от татар: «Неприятель наделал уже лестницы и лез на стены; но горожане лили на него из котлов горячую воду, кидали камни, стреляли из самострелов, пороков, тюфяков и пушек, которые здесь в первый раз упоминаются». Он опирался на летопись «Софийский временник», где сообщалось, что «тюфяки пущаще в них… а иные великими пушками». Тохтамышу взять Москву штурмом так и не удалось, пришлось прибегнуть к подлому обману.
Напомню, что «тюфяк» на языках иранской группы означает ружье («тюфенг»), но в русском варианте это, скорее, классическая ручная бомбарда. Впрочем, так или иначе, а «тюфяки» (ружья, пищали или пушки – неважно), сделанные немцем Яном, доказали свою эффективность. Один из первых тюфяков, подобный тем, какими москвичи отбивались от орд Тохтамыша, сегодня можно видеть в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. Он изготовлен во второй половине XIV – начале XV вв. из железа, цельнокованый, а не склепанный из полос, стянутых обручами, как клепались ручные бомдбарды в Европе, длину имеет почти 50 см, вес 11,5 кг, диаметр канала ствола – 9 см.
Зимой 1408 года ордынцы Едигея так и не решились двинуться на штурм кремлевских стен, опасаясь именно московской артиллерии. Они ждали поддержки от князя Иоанна Тверского, в войске которого в свою очередь имелись орудия, но не дождались и ушли.
Жизнь, таким образом, заставила русских сделать ставку на огневой бой. Русская власть сразу же отлично поняла стратегическое значение артиллерии и делала все возможное для ее приоритетного развития. Вначале порох привозился от иноземцев, но уже в 1400 году, как считается, в Москве начинают изготавливать его самостоятельно206. Русская «Пушечная изба» для поточного производства пороха и огнестрельного оружия была учреждена приказом великого князя Ивана III; первое упоминание о ней относится к 1475 году, к организации дела приложил руку Аристотель Фиораванти. Но нечто подобное, конечно, действовало и ранее, поскольку именно огнестрельное оружие русских решило исход Стояния на Угре в 1480 году207, а значит, его к тому времени уже было весьма достаточно. «Изба» сгорела в 1488 году, после чего в Занеглименье (там, где сегодня «Детский мир») было создано новое, очень крупное орудийное производство: «Пушечный Двор», где трудилось несколько сот человек. Огромного значения событием стало открытие в 1491 г. собственного медного месторождения на реке Печоре, что сильно содействовало литейному делу. Еще один пороховой завод («Алевизов двор») был построен в 1494 году венецианским инженером Алевизом Старым. Следом создавались литейные и селитренные заводы, пороховые мельницы, рудники и т. д. Производство бурно развивалось.
А тем временем шел быстрый количественный рост русских орудий. Притом не только в Москве: в 1393 г. новгородское войско было вынуждено бросить пушки (которые, следовательно, имелись) после неудачной осады Пскова; о наличии своей артиллерии в Тверском княжестве около 1408 года уже упомянуто выше, позднее свои пушки отмечены в Галиче, Пскове и др. Но Москва, конечно, шла впереди.
Русские скоро вполне овладели мастерством пушечного литья, которое по своей технологии в принципе не отличалось от хорошо нам понятного литья колокольного. И так же скоро пришли опытным путем к установлению оптимальных пропорций сплава: уже к XVI веку мастера знали, что соотношение олова к меди не должно превышать 1:9, в отличие от колокольной бронзы, где содержание олова доходило до 20%.
Но подробнее о своеобразии и самобытности русского огнестрельного оружия, его отличии от вооружений и Запада, и Востока будет сказано в своем месте. В данном разделе следует подчеркнуть те особенности, которые свидетельствуют о восточном влиянии в создании нового и важнейшего вида вооружений.
* * *
Восточный след в русском пушечном искусстве. Судить об этом по ранним образцам затруднительно, покольку их сохранилось слишком недостаточно. Известно, что в XIV—XVI вв. орудия местного, российского изготовления, производились зачастую при участии западных – итальянских или немецких – мастеров. А вот об участии в этом деле мастеров из Турции, Средней Азии или Ближнего Востока, напротив, не известно ничего. Привозных, покупных восточных орудий XIV—XVI мы также не знаем, видимо, их ввоз был осложнен, в отличие от сабель, шлемов, доспехов. Ружейные стволы из Турции в Россию импортировались, но не пушки. Должно быть, султанская Турция, время от времени имевшая военные столкновения с Россией, вообще не желала делиться с русскими артиллерией, имевшей тогда такое же передовое и стратегическое значение, как сегодня ядерные и космические силы. Но понятно, что русским в сражениях с татарами, в том числе крымскими, случалось, конечно же, забирать трофейное турецкое оружие – пищали и пушки. При таких обстоятельствах естественно предполагать определенное влияние Востока и в данном виде вооружений. Попробуем найти его следы в сохранившихся образцах русской работы XVI—XVII веков.
Русское оружейное производство в этот период развивалось уже в основном на отечественной базе (свой порох, своя медь, только дорогое олово завозили из Швеции и Богемии), притом весьма лихими темпами. Централизация Московского государства сказалась здесь решающим образом, что само по себе сопоставимо с Османской империей. Уже при Иване Грозном количество простых пушек русской работы было весьма велико. В составе «большого государева наряда», участвовавшего в Ливонском походе в 1577 году, насчитывалось 35 больших стенобитных (!) пищалей и 21 мортира самого различного калибра – от 1 пуда до 13 пудов208. Но это был далеко не весь артиллерийский парк России. Как докладывал императору Максимилиану II посол Иоанн Кобенцль, «к бою у русских артиллеристов всегда готовы не менее двух тысяч орудий». Другой дипломат того времени, англичанин Дж. Флетчер (в целом очень недобро относившийся к России, похерившей его коммерческие планы), писал в своей книге хвалебно: «Полагают, что ни один из христианских государей не имеет такой хорошей артиллерии и такого запаса снарядов, как русский царь, чему отчасти может служить подтверждением Оружейная палата в Москве, где стоят в огромном количестве всякого рода пушки, все литые из меди и весьма красивые».
Флетчер не случайно далее обращает особое внимание на знатные «пищали» (пушки), награжденные именами собственными: «Лев», «Единорог» и др. Таких именных пушек было немало. Они отличались не только мощью, но и особой художественностью тщательного исполнения. Некоторые из них, в отличие от тысяч заурядных орудий, сохранились в музеях России и Европы. Есть смысл присмотреться именно к ним как к показательным образцам русского оружейного искусства.
Традиция давать выдающися пушкам имена собственные был развита как на Западе, так и на Востоке, хотя имена турецких бомбард до нас не дошли, не считая знаменитой Базилики. Лили и на Руси именные пушки уже в XV веке: например приезжий мастер фрязин (француз) Павел Дебосис отлил в 1488 году «пушку велику» весом в 1000 пудов (16,4 тонны), названную в его честь «Павлином», а в народе впервые прозванную «Царь-пушкой». Судя по подробной миниатюре в летописи, где этот артиллерийский монстр запечатлен весьма реалистично, то была типичная большая бомбарда европейского типа сродни «Бешеной Грете», из двух частей, с широким дулом и более узкой пороховой камерой. На ней, как и на «Грете», тоже не было никаких украшений, одна голая функция… Ее даже попытались москвичи использовать без всякого почтения как таран – бронзовое бревно – во время мятежа 1584 года, намереваясь выбить Фроловские ворота Спасской башни Кремля.
По всей видимости, примерно так же выглядели и крупнейшие русские орудия, сделанные в середине XVI века: «Кашпирова пушка» (1554) и «Павлин» (1555). Первая, отлитая немцем Кашпиром Гансом, весила 19.300, вторая, сделанная Степаном Петровым, – 16.320 кг. Они не сохранились. А поскольку мастер Петров явно брал за образец ставшего уже легендарным «Павлина», вылитого Дебосисом в 1488 году, то можно предположить, что и это орудие было в целом простым и безыскусным по внешности.
Это предположение косвенно подтверждается документом: в «Книге приходно-расходной пушкам и пищалям», составленной в 1694 году, про Царь-пушку говорится: «На ней к устью вылит человек на коне з булавою» (имеется в виду царь Михаил Романов), а про «пушку Павлин» и «пушку Кашпирову» ничего подобного не сказано209. Видимо, они не были украшены ничем, достойным внимания. Нельзя при этом не заметить, однако, что сквозные гнезда, несвойственные декору европейских бомбард, украшают ствол «Павлина», как на турецкой «Дарданелльской пушке», что позволяет все же предположить некоторое восточное влияние.
Понятно, что популярные у русских мастеров пушечного дела изображения людей и зверей были совершенно несоместимы с суннитскими принципами в искусстве, и не могут быть отнесены на счет турецкого влияния. А шиитское, конкретно персидское, влияние было невозможно по причине неразвитости пушкарского дела в Персии.
Тем не менее, восточные мотивы проникают и в творчество русских творцов огнестрельного оружия. Тот же Андрей Чохов отлил пушку весом 357 пудов (5712 кг) с надписью: «Пищаль Перс лита лета 7094 (1586 г.), месяца сентября в 12-й день, длина 7 аршин, ядро 40 гривенок, делал Ондрей Чохов». Ее отличительной особенностью стал винград, сделанный в форме оплечного бюста человека с бородой и в чалме.
Эта именная пушка получила известность и отразилась не только в анналах, но и в сознании современников. Спустя ровно сто лет, в 1686 году мастер Мартьян Осипов отлил пушку, о коей имеется такая запись: «Великие государи… Иван Алексеевич, Петр Алексеевич и царевна Софья Алексеевна… пожаловали пушечных мастеров Мартьяна Осипова, да Якова Дубинку, да учеников их 31 человек за пушечное литье, что они в прошлом во 7194 (1686) году вылили две пушки большие, прозванием одна „Новый Перс“ витая, другая „Новый Троил“, велели им дать своего великих государей жалованья, в приказ, мастером по 10 рублев человеку учеником по I½ рубли человеку»210. Видимо, последователю очень хотелось если не затмить великого предшественника, то по крайней мере сравняться с ним211. Идея, взятая у Чохова, была творчески переработана Осиповым, который придал «персу» несколько иной облик.
Здесь следует обратить внимание не только на изображение «восточного человека» на винграде, но и на выражение «витая». Изготовление стволов пушек в виде связки спирально перекрученных жердей или отрезка огромного по толщине каната стало популярно уже в конце XV – начале XVI вв. в Европе, а позднее и в России, тому есть немало примеров. Можно предположить, что это делалось в подражание турецким ружьям, стволы которых делались из крученой, «витой» дамасской стали и смотрелись очень эффектно. Возможно, такая форма ствола подтолкнет русских инженеров-литейщиков XV и XVI столетий к идее ствола, нарезного («витого») изнутри, что станет на какое-то время русским ноу-хау и заметно увеличит дальность и прицельность стрельбы.
Итак, на первый взгляд, веяния Востока не слишком сказались на артиллерийском деле в России. Но это впечатление очень сильно меняется, когда мы обращаем свое внимание на самое главное русское огнестрельное орудие допетровского времени: Царь-пушку, отлитую Андреем Чоховым.
* * *
Царь-пушка среди бомбард мира. Андрей Чохов (ок. 1545—1629) – самый знаменитый из большой плеяды известных русских литейщиков, отливший немало пушек и церковных колоколов. Он родился где-то в окрестностях Курска и прожил долгую жизнь. Лет двенадцати отроду Чохов оказался в учениках у того самого Кашпира Ганусова на Московском Пушечном дворе, а в зрелые годы первым из всех получил от царя почетный титул «государев пушечный и колокольный мастер». В списках на оплату труда его имя всегда стоит первым, а работал он до самой смерти, последнее упоминание об отлитой им пищали относится к 1629 году.
Чохову не было еще и двадцати пяти лет, когда он самостоятельно отлил орудие, о котором указано: «пищаль медная… ядром пять гривенок. На ней орел двоеглавной, наверху орла три травы, у казны трава ж, в травах подпись: Лета 7076 (1568). Делал Кашперов ученик Андрей Чохов. Весом 43 пуда». В своем месте будет сказано и о других известных пушках замечательного мастера; все они имеют собственные имена. Здесь же следует обратиться к самому знаменитому русскому орудию, созданному Чоховым в расцвете его сил в 1586 году: это Царь-пушка.
Вероятно, все взрослые люди, ходившие в советскую или российскую школу, знают, о чем идет речь, и представляют себе внешний вид этой необыкновенной пушки. Она очень велика, очень красива и очень… загадочна. В том числе потому, что именно внешний вид ее обманчив, и главный секрет орудия был раскрыт только в 1980 году, когда в ходе реставрационных работ оно подверглось первой научной экспертизе, проведенной силами Артиллерийской академии им. Дзержинского. И сразу оказались разбиты оба связанные с пушкой мифа.
Дело в том, что расхожие представления, бытующие и до сих пор, состоят в том, во-первых, что пушка-де никогда не стреляла. Многие знают саркастическое замечание на сей счет Петра Чаадаева212, подхваченное затем, с одной стороны, революционером А. И. Герценом, а с другой – маркизом А. де Кюстином в его дышащей русофобией книге. Но эта черная легенда оказалась неправдой, ибо внутри пушки отыскались следы пороха, что однозначно свидетельствует: она стреляла хотя бы однажды. Сколько именно раз и при каких обстоятельствах – неизвестно. Историк Лев Гумилев полагал, что это след выстрела прахом Лжедмитрия, который был смешан с порохом и таким образом отправлен туда, откуда пришел – в сторону Польши, Запада вообще. Возможно – то след испытания, которое должно было проходить любое вновь отлитое орудие в присутствии изготовившего его мастера. Об этом может говорить тот факт, что затравочное отверстие в толстостенной пушке так никогда и не было просверлено до конца, а пробный выстрел в таком случае был произведен с помощью запального шнура, проведенного к заряду через дуло. Но так или иначе, а пушка стреляла.
Второе заблуждение в ее отношении состоит в том, что Царь-пушку долгое время считали по своему назначению – «дробовиком», то есть орудием, предназначенным для стрельбы картечью, «дробом». Поскольку ее внешне ровный, одинакового диаметра по всей длине цилиндрический ствол не предполагал другого использования. Так он именуется даже в документе 1745 года, времен Елизаветы Петровны; и в дальнейшем пушку важно называли в источниках «Дробовик Российский».
Однако, заглянув внимательно внутрь, эксперты обнаружили, что пушка состоит из двух камер: дульной (диаметр 92 см) и казенной (44 см), с плоским дном. Причем толщина стенок ствола в дульной части составляет около 15 сантиметров, а толщина стенок пороховой камеры – до 38 сантиметров, и толщина тарели (задней стенки) – 42 сантиметра213. Это значит, что в пушку, в ее слегка конусообразный канал, помещался снаряд. А это, в свою очередь, значит, что перед нами никакой не дробовик, а самая настоящая бомбарда, которая должна была стрелять ядрами214, хотя могла стрелять и дробом. Кроме всего, Царь-пушка имеет длину четыре калибра, а это стандарт именно бомбарды. Расчеты показали, что запас прочности у этого орудия был достаточен, чтобы выполнять такое предназначение215.
Что это значит для нашего исследования? Прежде всего то, что сравнивать Царь-пушку следует именно с известными бомбардами и мортирами Востока и Запада, если мы хотим обнаружить нечто типическое.
Пушка Чохова – настоящая красавица, бесспорно уникальная. Но на что она, все же, похожа? На европейские бомбарды? Нет. Ничего общего ни с гентской «Бешеной Гретой» (она же «Большой красный дьявол»), ни с брауншвейгской «Ленивой Матильдой», известной сегодня по гравюре и описанию, ни с эдинбургской «Мег из Монса» в ней усмотреть невозможно. Прежде всего это относится к внешнему виду: в западных бомбардах бросается в глаза их двусоставность, ибо каждая из двух камер имеет свой наружный диаметр, а Царь-пушка – напротив, только внутренний, внешний же – един. Западные бомбарды строго функциональны, внешне просты и незамысловаты, лишены интересного декора, в отличие от русского орудия.
Кроме того, наша главная бомбарда гораздо больше западных, ее максимальные размеры даже официально подтверждены Всемирной книгой рекордов Гиннесса. Царь-пушка весит 2400 пудов или 38,4 тонны, в то время как «Бешеная Грета» весит всего 16,4 тонны, ее калибр почти вполовину меньше калибра Царь-пушки; «Ленивая Матильда» весила 8,16 тонны216; а «Монс Мег» весит и вовсе лишь 6,6 тонны.
Больше того: Царь-пушка совершенно затмила параметрами и отечественные, но сделанные на западный образец «Кашпирову пушку» и «Павлина» (как Дебосиса, так и Петрова). А уж про экстерьер и говорить нечего. Таких красивых бомбард в мире больше нет, она еще и произведение искусства, вне сравнений. И даже благородная патина – окись меди нежнозеленого цвета с голубым оттенком бадахшанской бирюзы – ее необычайно красит, свидетельствуя о высочайшем качестве бронзы.
С чем же мы сравним ее? Приходится признать, что ближайшими аналогами являются турецкие бомбарды XV века, как стоящие во дворе стамбульского Военно-исторического музея, так и хранящаяся в Англии внушительная и красивая «Дарданелльская пушка» (она же «пушка Магомета»), сделанная Муниром Али в 1464 году по образцу знаменитой Базилики, разрушившей стены Константинополя. С ними нашу великолепную бомбарду роднят совершенные пропорции и общий ровно цилиндрический, а не ступенчатый вид, а также внутреннее устройство. Мою точку зрения на этот вопрос разделяет историк-специалист Александр Широкорад, который тридцать лет исследует отечественную артиллерию и недавно опубликовал в авторитетном журнале «Национальная оборона» статью, посвященную именно нашему предмету217.
Кстати, красивая (но уступающая нашей) Дарданелльская пушка состоит из двух частей, свинчивающихся между собой, однако в собранном виде это все равно внешне единый цилиндр, как и Царь-пушка, а не двусоставное ступенчатое орудие из цилиндров разного диаметра, как западные бомбарды. Ее принципиальное сходство с Царь-пушкой подчеркнул и Широкорад: «Интересно, что „пушка Магомета“ („Дарданелльская“) внешне и по устройству канала очень схожа с Царь-пушкой»218. Но наша пушка удобнее и проще в обращении.
Думается, что Андрей Чохов, замышляя свой грандиозный труд, отталкивался от лучших известных ему образцов бомбард в мире, которые он честолюбиво стремился превзойти. А ими были отнюдь не западные и не сделанные по их принципу отечественные бомбарды, а конечно же – легендарные турецкие орудия XV века, разрушившие священный и знаменательный для всякого православного человека Царьград. И тем доказавшие свою сверхдейственность. Каким образом Чохов раздобыл их изображения или чертежи – можно гадать, но факт налицо: он сделал именно супербомбарду, напоминающую турецкие аналоги, но превосходящую их по всем статьям219. В том числе и в эстетическом плане; она красивее, совершеннее турецких бомбард, ее декор богаче и разнообразнее.
Остается только заметить, что Царь-пушка с самого начала воспринималась, в первую очередь, именно как произведение искусства, как украшение столицы, а совсем не только в утилитарном милитаристском смысле, хотя ее военных достоинств это не умаляло и не умаляет220.
Таким образом, в русском пушечном производстве восточное влияние хотя и не доминировало, но все же проявлялось. Образы Турции, Персии присутствовали в сознании русских мастеров-литейщиков, художников своего дела.
* * *
Стрелковое оружие. Не будем забывать, что смертоносное огнестрельное оружие – это не только пушки. И если последние не импортировались на Русь с Востока, то это ограничение не касалось легкого вооружения – ружей и пр. В этом отношении нам судить легко, ибо, как указано в комментариях к описанию шедевров Оружейной палаты: «Прекрасные восточные стволы из дамасской стали русские оружейники часто использовали при изготовлении своих ружей»221. Так же, как использовали они восточные булатные клинки, в том числе пуская их в перековку, или булатные шлемы и зерцальные доспехи, декорируя их по-своему, и т. д.
В качестве примера можно привести пищаль с длинным массивным турецким стволом (ОПМК №75), которая «относится к лучшим образцам русского парадного охотничьего оружия первой половины XVII в., изготовленного в Оружейной палате»222.
Такая постановка вопроса несколько странна. Если в холодном оружии самое главное – это клинок, то в огнестрельном, несомненно, – ствол. Именно они придают основной смысл каждый своему виду вооружений. Можно ли относить к «лучшим образцам» оружия одной национальной школы предметы, главный элемент которых изготовлен в традициях другой национальной школы, руками мастеров другой страны, другой национальности? Однако отечественное искусствоведение, похоже, расценивает дело именно так.
Причем, как ясно из сказанного выше, происходило такое освоение русскими оружейниками восточных ружейных стволов в достаточно массовом масштабе. И – добавим – с достаточно давних пор. Об этом свидетельствует еще один экспонат – ружье оружничего Богдана Бельского (ОПМК №88). О нем сказано: «Редкий в собраниях России образец раннего турецкого огнестрельного оружия конца XVI в. Оно имеет фитильный замок восточного типа… Ствол ружья дамасской стали, в дульной части откован в виде змеиной головы с напаянными медью глазами. Подобный прием декорировки стволов часто встречается на турецком и русском длинноствольном оружии XVI—XVII столетий (ясно, что русские заимствовали прием у турок, а не наоборот. – А.С.). На казенной части ствола выбиты три пятиугольных клейма в которых повторяется восточная надпись „Делал Махмуд“»223.
На этом эпизоде, вполне ясно раскрывающем общую картину, можно остановить наш рассказ. Понятно, что с огнестрельным вооружением дело обстояло так же, как и с холодным оружием: влияние Востока вплоть до второй трети XVII века было определяющим.
* * *
Оборонительное оружие.
Татаро-монгольское нашествие внесло решительные коррективы не только в части смертоносных, но и оборонительных вооружений. С монгольским, вообще азиатским влиянием связан русский защитный костюм и доспех уже в XIII веке. Так, в 1252—1254 гг. войско Даниила Галицкого, пришедшее за Одер сражаться с немцами в Чехии и Германии, было одето в татарские доспехи: «Беша бо кони в личинах и в коярех кожаных и людье во ярыцех». Чем немцы были немало удивлены. Одним из видов восточного чешуйчатого доспеха были куяки, которые встречались в Московской Руси, хоть и нечасто224. С азиатским влиянием связывают и кольчатые доспехи – байданы, и кольчато-пластинчатые – бахтерцы, юшманы, колонтари. Хотя и русская кольчуга, будучи весьма совершенна, вполне сохраняла свои позиции до XVII века.
Но главное, самый распространенный в XVI веке защитный костюм небогатого воина – тегиляй – представлял собой как татарский, так теперь уже и русский доспех. В классическом труде А. В. Висковатова он описан так: «Платье с короткими рукавами и с высоким стоячим воротником, употреблявшееся такими ратниками, которые, по бедности, не были в состоянии явиться на службу в доспехе. Делался тегиляй из сукна, также из других шерстяных или бумажных материй, толсто подбивался хлопчатою бумагою или пенькою, иногда с прибавлением панцирных или кольчужных обрывков, и был насквозь простеган. В таком виде тегиляй был почти столь же надежною защитою, как и всякий доспех. Надевался он в рукава, как кафтан; в длину был ниже колен, а застегивался пуговицами на груди»225. Именно в тегиляях красуются конные русские ратники, изображенные на карте-плане Москвы (1556) и на немецких гравюрах, в частности из книги Герберштейна226, известных нам еще по школьным учебникам истории. В толстой набивке тегиляев нередко застревали стрелы, они неплохо защищали и от сабельных ударов. Впервые тегиляй упоминается в переписке Ивана III в 1489 году, но наверняка использовался задолго до того. По мнению видного бурятского ориенталиста Доржи Банзарова, слово «тегиляй» происходит от монгольского «тегель», означающего «шитье, стежка»227.
Вот в таком, татарском по происхождению, наряде щеголяло, по большей части, конное поместное войско, состоявшее из небогатых помещиков и дворян (ядро русских вооруженных сил), ведь власть оставляла вооружение на усмотрение каждого воина. Общая численность дворянского ополчения могла достигать в конце XVI века 50.000 человек, в дальнейшем численность росла. И общий внешний вид этой конницы определялся изготовленными в домашних условиях тегиляями «а-ля тартар». А что до широких народных масс, принимавших участие в походах и сражениях XVI—XVII вв., они состояли из казаков (вольных и служилых, городских и слободских, устроенных на манер стрельцов), а также простых селян, горожан и монастырских людей, занятых на военно-инженерных работах, транспортировке артиллерийских орудий, боеприпасов, обслуживании орудий и помощи людям пушкарского чина, в охране городов. Эти люди одевались кто во что горазд и имели хоть какое-то оружие одно на пять-шесть человек, хотя правительство и добивалось, чтобы каждый горожанин и селянин имел хотя бы рогатину, пищаль или бердыш, дабы в случае надобности участвовать в народном ополчении. Но средств при этом не давало (разве что казакам, в виде боеприпасов), а своих у людей не было.
Любопытно, что в Лицевом летописном своде имеется посвященная событиям 1552 года миниатюра «Бысть сеча в граде Казани», на которой русские и татары, с одинаковыми саблями в руках, вообще неотличимы по вооружению и внешнему виду.
Доспехи. Зато у русских богатых и знатных людей, у военачальников был свой излюбленный наряд – зерцальный доспех, хотя и он порой надевался поверх тегиляя. В Оружейной палате хранится около пятидесяти (!) комплектов таких доспехов, что свидетельствует об их большой популярности.
Что этот доспех собой представлял и откуда появился?
Появление на Руси ранних зерцал, представлявших собой круглую металлическую бляху, одевавшуюся поверх кольчужного, как правило, доспеха, относят к концу XIII. У монголов этот тип доспеха также известен в XIII—XIV вв. Таким образом, и тут влияние монголо-татарских пришельцев очевидно. Хотя надо сказать, что данный тип защитного вооружения вообще широко распространен на Востоке. В персидском варианте он называется «чахар-айина» («четыре зерцала»); в китайском «пиньинь» («зерцало, защищающее сердце»). «Чаще всего употреблялись зерцала из двух или четырех пластин, но иногда их число могло доходить до четырех десятков и более»228.
Различают два вида: полный зерцальный доспех и зерцала личные. Считается, что полные зерцальные доспехи в русской традиции имеют более позднее османское происхождение229, тогда как зерцала личные давно пришли из Средней Азии и Персии230. Эти последние в персидском варианте были лишь усиливающими кольчатый доспех элементами и всегда состояли из четырех больших пластин: нагрудной, наспинной и двух боковых231. Пластины могли иметь разные формы: прямоугольники, восьмиугольники и круги, а боковые пластины могли иметь подмышечную выемку.
О том, как выглядели в 1588 году в подобных доспехах представители верхушки русского общества, рассказал наблюдательный дипломат и поэт Джильс Флетчер: «У главных предводителей и знатных лиц лошади покрыты богатою сбруею, седла из золотой парчи, узды также роскошно убраны золотом, с шелковою бахромою, и унизаны жемчугом и драгоценными камнями; сами они в щегольской броне, называемой булатной, из прекрасной блестящей стали, сверх которой еще надевают одежду из золотой парчи с горностаевой опушкой»232. Читая эти строки, вспоминаешь, конечно же, не собрания Тауэра, Дрездена или Музея армии в Париже, а исключительно коллекции Военно-исторического музея в Стамбуле и не менее того – султанского дворца Топкапы.
Зерцальные доспехи были любимы русскими князьями и царями. К сожалению, мы не можем заглянуть воочию в глубь веков, поскольку в пожаре 1547 года сгорело все содержимое Оружейной палаты на тот момент: в том числе оружие великих князей Ивана Ивановича, Дмитрия Донского, Ивана III Васильевича и их замечательных современников. Колоссальный ущерб Оружейной палате нанесли польские интервенты и другие фигуранты Смутного времени, разграбившие ее в те годы так, что потом пришлось по крупицам собирать из разных мест былое наследие (многого найти не удалось). Но все же мы можем полюбоваться на самые совершенные по техническому исполнению и красоте образцы вооружений и просветиться на их счет, читая высокопрофессиональные описания сотрудников Музеев Кремля.
Помимо зерцальных, русские носили и другие разнообразные пластинчатые доспехи. Об их происхождении говорят уже и сами восточные названия типов защитных приспособлений: чичак (шишак), бутурлык, бахтерец, байдана, колонтарь, юшман и т. д. Ничего удивительного: «В XVI—XVII вв. бахтерцы и конструктивно родственные им доспехи были распространены на Востоке (Иране, Турции, Египте, Индии) и в некоторых европейских странах (Польше, Венгрии, России – понятно: именно эти страны теснее всего контактировали тогда с Востоком. – А.С.)»233.
Типологически восточные, пластинчатые доспехи, однако, нередко выполнялись русскими мастерами с большим искусством. Так, один из самых красивых зерцальных доспехов (ОПМК №20) был сделан для юного Михаила Федоровича в 1616 году русским мастером Дмитрием Коноваловым (ковка) и немцем Андреем Тирманом (травление и золочение). Великолепен бахтерец (ОПМК №18), выполненный Кононом Михайловым в 1620 году: каждая его пластиночка насечена золотом – красиво, необычно, стильно.
Алексей Михайлович по каким-то причинам не носил ни лучший шлем, ни лучший доспех своего отца. Не носил он и дареные ему не раз западные доспехи, хотя Никита Давыдов исполнил как-то раз занятную кирасу по западному образцу. Зато Тишайший царь любил и ценил турецкой работы крупнопластинчатый юшман (ОПМК №19), который брал с собой в походы 1654—1656 гг. Его пластины декорированы золотой таушировкой – там мы видим растительный орнамент и восточные надписи: «Милосердный Зиждитель», «Слава Тебе по всему миру».
Правда, в 1663 году Тишайший дождался собственного зерцального доспеха, изготовленного Никитой Давыдовым (ОПМК №21; это одна из последних выдающихся работ мастера). А в 1670 году по его заказу был исполнен особый великолепный зерцальный доспех, повторяющий работу Дмитрия Коновалова (в центре – двуглавый орел, по кругу – титулатура); к сорока годам царь наконец решил «сравняться» с отцом, чьим оборонительным оружием не пользовался из принципа. Однако этому доспеху – вряд ли случайно – в витрине Оружейной палаты придан наголовник в виде популярного еще у татар шлема «мисюрка», и комплект сразу же производит впечатление Востока, как оно, собственно, и должно быть.
Кроме доспеха, тело русского воина защищали наручи, а иногда и поножи (бутурлыки). Любимые наручи Алексея Михайловича, которые он брал с собой в Смоленский и Рижский походы (ОПМК №28), были турецкой работы XVI века и поступили в казну в 1622 году поле смерти князя Ф. И. Мстиславского. Эти парные наручи «по всей длине отерты гранями и сплошь покрыты инкрустированным в булат тонким золотым растительным орнаментом, поверх которого укреплены фигурные (в виде бутонов тюльпанов и розеток) золотые пластины с драгоценными камнями в высоких гнездах»234.
Сегодня наручи персидской работы (и персидскую же саблю) можно увидеть в реконструированном дворце Алексея Михайловича в Коломенском – в «детской учительной палате»235.
В Оружейной палате хранятся и другие прекрасные наручи турецкой работы. Очевидно, их воздействие на воображение русских оружейников было настолько сильным, что в подражание им Никита Давыдов в первой половине XVII века выполнил свою пару, «видимо, по вполне конкретному образцу» (в коллекции есть «пара других наручей – именно турецких – с почти полностью аналогичным декоративным решением»236).
Шлемы, боевые шапки. Изложение темы происхождения и морфологии домонгольских русских шлемов основано здесь на фундаментальной работе А. Н. Кирпичникова, детально раскрывающей вопрос237.
Если отказаться от исчисления российской истории со времен Урарту, на чем в советское время настаивала официальная версия, то можно уверждать на основании данных археологии: с VIII-Х вв. и до второй половины XVI века основным типом шлемов, применяемых на Руси, были высокие сфероконические шеломы, увенчанные шпилем или втулкой для перьев или флажка-яловца (эта деталь, по мнению Кирпичникова, восходит к XI—XII вв.). Вначале склепанные из нескольких (от двух до четырех и более) пластин, затем и цельнокованые. Со времен по крайней мере Святослава Хороброго применялось золочение и серебрение шлемов, разнообразные прикрасы. По нижнему краю, как правило, крепились кольчужные бармицы.
«Все известные образцы („курганного периода“. — А.С.), судя по богатству отделки, принадлежали, по-видимому, феодальной знати. О шлемах рядовых дружинников ничего определенного сказать нельзя. Однако эта часть боевого доспеха имелась не только у предводителей, но и у дружины. Лев Диакон сообщает о „твердых шлемах“ русских, воевавших на Балканах», – пишет Кирпичников.
В дореволюционное время такие ученые, как Э. Ленц и В. В. Арендт, настаивали на восточном происхождении подобных шеломов, затем советские историки А. В. Арциховский, Б. А. Рыбаков и др. доказали существование на Руси собственного оружия и такого вида защитного доспеха, как шлем. Кирпичников своеобразно резюмирует результат дискуссий: «Генезис русских шлемов указывает на азиатский Восток… Речь может идти только о происхождении типа втульчатого сфероконического наголовья, господствовавшего на Среднем и Ближнем Востоке в течение всего средневековья. Следует отметить, что детали орнаментального убранства, боковые „умбоны“ и медно-золоченая техника древнерусских экземпляров пока не встречены на Востоке. Не исключено, что наиболее своеобразные нарядные экземпляры из Гнёздова и Черной могилы были сделаны местными мастерами, знакомыми с азиатскими моделями». Такой неопределенный, гадательный результат многолетних дискуссий оставляет, на мой взгляд, вопрос о происхождении русского шлема открытым и спорным. Но дает все основания говорить о взаимовлиянии восточной и собственно русской традиции.
Зато вот что бесспорно: «шлемы Северной Европы существенно отличались от гнёздовского образца (равно как и от других русских находок)». Более того, влияние тут шло в обратном направлении: «Путь распространения золоченых шлемов с Востока на Запад в общем не вызывает сомнений… Вероятным центром изготовления золоченых шлемов было Киевское государство, так как наиболее древние экземпляры найдены в богатейших княжеско-боярских курганах X в. Нельзя, конечно, утверждать, что все зарубежные шлемы сделаны в русских городах, однако, если говорить о генезисе таких памятников, то, очевидно, нельзя и отрицать того положения, что сам тип сфероконического золоченого наголовья, сложившийся под восточным влиянием, в X в. бытовал на Руси. Отсюда он мог проникнуть на Запад и вызвать там местные подражания».
Этот факт дает повод вновь предполагать, во-первых, что домонгольская Русь в ряде областей техники и искусства развивалась не догоняющими, а опережающими Западную Европу темпами. А во-вторых, что западноевропейская цивилизация еще не вполне сложилась в романский период и не могла претендовать на роль мегацивилизации, в отличие от двух восточных: монголоидно-китайской и исламо-арабской. Уступая им в культурном и технологическом отношении. Руси же во многом выпала роль страны, через которую проходил культурный транзит.
В XII – начале XIII вв. расхождение между русской и западной традицией шлемоделания нарастает. Хотя русские тоже стремятся полностью прикрыть как голову, так и лицо, но таких «громоздких и неуклюжих» шлемов, как на Западе, у нас не создают. Самый известный русский шлем этого периода, предположительно принадлежавший князю Ярославу Всеволодовичу, «обит серебряным листом и украшен позолоченными серебряными чеканными накладками: на вершине – звездчатой пластиной с изображением Спаса, Св. Георгия, Василия, Федора и на челе – образом архангела Михаила с черневой посвятительной надписью. По краю проходит орнаментная кайма с изображением грифонов, птиц и барсов, разделенных лилиями и листьями. Чеканная отделка стилистически близка к Владимиро-Суздальской белокаменной резьбе, что, может быть, указывает место изготовления памятника… Кроме того, кругом по ободу в пяти местах имеются сломанные ушки для бармицы. К тулье прикреплен клювовидный посеребренный наносник с позолоченным надбровьем, образующим вырезы для глаз». Характерной особенностью подобных шлемов данного периода является их крутобокость. Известно еще как мимум два образца, причем все они «настолько своеобразны, что исключают мысль о каком-либо заимствовании. От своих западных современников они, между прочим, отличались круговой бармицей: западные образцы или упирались боковыми, длинными стенками в плечи и стесняли движение головы, или не имели бармицы, заменявшейся кольчужным капюшоном». Судя по некоторым изображениям в письменных источниках, такие капюшоны, представлявшие одно целое с кольчугой, были известны в русских княжествах, но шлем западного образца у нас не прижился.
Характерные, украшенные высокими шпилями с яловцами, русские шлемы заслуживают названия национальных, ибо они были заметным украшением русских воинов, как можно судить по десяткам миниатюр Радзивилловской летописи. Служили их отличительной особенностью. «Ратники Данила Галицкого имели во время похода на ятвягов шлемы „яко солнцю восходящю“. По словам немецкой рифмованной хроники, шлемы новгородцев „бросались в глаза“, „блестели как зеркало“».
Кирпичников подчеркивает: «Подводя общий итог эволюции шлемов X—XIII вв., можно сказать следующее. Русские домонгольские шлемы восходят к древним восточным образцам. Уже в ранний период эти шлемы отличались большим своеобразием, и многие их типы не имеют аналогий ни на Востоке, ни на Западе. Очевидно, русские оружейники создали самостоятельные варианты боевого наголовья, восхищавшие современников своими отличными качествами и красотой; это обеспечило русским шлемам распространение за пределами родной земли».
Но вот пришли орды Батыя, и положение резко изменилось: «Монгольское нашествие тяжело отразилось на русском оружейном ремесле. Меднозолоченые шлемы, а также крутобокие шлемы с чеканной религиозной рыцарской эмблематикой не получили дальнейшего развития в позднем средневековье»238.
* * *
Сфероконические простые стрельчатые шлемы с высоким шпилем, однако, еще долго, вплоть до XVII века, остаются в обиходе русского войска в качестве основной модели, лишь претерпевая незначительные изменения типа укорочения наносника. Их боевые качества, апробированные в веках, выдержали проверку татарским нашествием. Показательно, что именно такой шелом заказал уже разгромивший татар и взявший Казань Иван Грозный в 1557 году для своего трехлетнего царственного сыночка Ивана, «на вырост» (ОПМК №2).
Но со второй половины XVI в. шеломы постепенно выходят из боевого употребления. На смену им уже нередко появляются перенятые у восточного воинства низкие, скругленные, куполовидные или полусферические, «железные шапки», «шишаки», «мисюрки», а для небогатых помещиков и дворян – «бумажные шапки», сотворенные по тому же принципу, что и перенятые у победителей тегиляи.
В XVI—XVII веках, которым, собственно, посвящено наше исследование, следует отделять повседневный воинский быт от модного мейнстрима в дизайне вооружения имущих слоев. До появления первого русского регулярного воинства (стрельцов) говорить о какой-то унификации военного костюма не приходится. Оружие всегда стоило дорого, и было далеко не у каждого (выше отмечалось, что у народных ополченцев смертоносное оружие приходилось хорошо, если на одного из пятерых). Так что архаические образцы продолжали передаваться от отцов сыновьям, несмотря на весь свой архаизм. Однако не эти предметы определяли собой движение стиля, не по ним следует отслеживать эволюцию вкуса. Такие цели требуют вновь обратить наше внимание на произведения оружейного не ремесла, а искусства, заказчиками и потребителями которого выступали цари и знать.
В Оружейной палате хранится загадочный шлем редкой цилиндроконической формы с довольно широкими полями, именуемый «Шапка с Деисусом» (ОПМК №1). Который одно время считался боевой принадлежностью Александра Невского и по этой причине оказался надет художником Васнецовым на Добрыню Никитича с картины «Три богатыря». До революции была попытка провести аналогию между данным шлемом и древними кельтскими боевыми наголовьями, запечатленными на знаменитом «Ковре из Байо». В советское время шлем долго считали византийской работой XIII—XIV вв., но сегодня, благодаря исследованию И. А. Стерлиговой, он «возвращен» русским мастерам, несмотря на определенную связь с византийской оружейной традицией239. Которая, все же, просматривается как по линии формы – «греческого колпака», имевшего хождение в Византии предположительно в X—XV вв., так и по линии греческих надписей, сопровождающих часть изображений святых. Поэтому считать шлем оригинальным русским нет возможности. Уникальным такой шлем в свое время не был, поскольку аналогичные изображения мы видим на печати Ивана Ереминича из Новгорода (начало XIV века), а также на портрете Андрея Боголюбского (миниатюра Радзивилловской летописи). Но, видимо, в отличие от архитектуры и живописи, русское оружейное дело, от которого зависел вопрос жизни и смерти, не столь уж подвержено было византийскому влиянию, так что типовым данный образец не стал. Стерлигова считает, что данный шлем, созданный на Руси во второй половине XIV века, должен стоять в ряду русских княжеских инсигний, поскольку выражает представления о некоем православном самодержце, воителе за христианскую веру. Что в условиях татарского ига было, конечно, актуальным. Однако в плане оружейной эстетики и моды данный шлем погоды не сделал, и судить об искусстве русского шлема мы будем не по нему.
Как и в других сферах искусства и ремесла (иконы, ткани, церковное строение и др.), русские и здесь, как видим, к концу ордынского периода стали избавляться от византийского влияния. Вопрос, в пользу чего это делалось? Запада, Востока или оригинальных собственных интенций?
Ответ однозначен. Его дают, в частности, археологические находки, сделанные в Ипатьевском переулке Москвы (Китай-город), где они, надо полагать, когда-то хранились в некоем частном арсенале. Шлемы, найденные там, датируются до 1547 г., благодаря монетам, найденным вместе с ними; следовательно, их можно отнести к концу XV – первой половине XVI вв. Историк-специалист К. А. Жуков характеризует их так: «Шлемы, несомненно, являются продуктом преобладающих восточных тенденций в русском военном деле XV—XVI вв. Своими очертаниями они точно воспроизводят образцы воинского обихода Турции и Ирана. Изготовлялись они при этом на территории Руси, скорее всего, в московских оружейных мастерских. Рассматриваемые экземпляры однозначно соотносятся с изображениями на картине „Битва на Орше“, воспроизводящей события 1514 г. (хранится в Народном музее в Варшаве) … Надежно датированный (до 1547 г.) шлем данного типа, принадлежавший Ивану IV Грозному, хранится в Королевском Арсенале в Стокгольме»240.
Эти важные наблюдения позволяют, во-первых, ставить вопрос о повторном заимствовании новых форм сфероконических наголовий с территории Азии, что отлично корреллирует с другими явлениями, отмеченными в настоящем повествовании. Во-вторых, сравнение раскопочных шлемов с царской инсигнией позволяет делать вывод о достаточно массовом характере процесса, охватившем разные слои общества. А в-третьих, позволяет перейти к рассказу о достойном внимания шлеме Ивана Грозного.
В отношении данного шлема в отечественном искусствоведении разыгралась очень показательная история, когда в 2009 году он был впервые привезен из Швеции в Россию и выставлялся в Москве (в ОПМК) и в Астрахани по случаю 450-летия ее включения в состав государства Российского. Что же произошло?
В тексте для буклета, выпущенного по случаю такого видного события, научный сотрудник сектора оружия и конского убранства Музеев Московского Кремля В. Р. Новоселов дал такое описание: «Шлем царя Ивана IV выкован из стали, по форме стрельчатый, с высоким узким островерхим шпилем для крепления флажка-яловца – именно в таких шлемах обычно изображают героев русских былин, богатырей… На Руси такой тип боевого наголовья назывался шеломом или шоломом. Шлем богато украшен золотой насечкой (инкрустацией), отличающейся изумительно ювелирно тонким, совершенным качеством исполнения и строгой лаконичной красотой. Конусообразный колпак шлема разделен на узкие чередующиеся сегменты; гладкие и инкрустированные переплетенными вьющимися вверх золотыми травами со стилизованными листьями и бутонами цветов. Венец шлема украшен тремя декоративными ярусами. Верхний представляет собой насеченную золотом вязь – имитацию (!) арабской надписи. Ниже нее проходит узкий поясок с инкрустированной кириллической надписью: «Шеломъ князя Ивана Васильевичя великого князя с (ы) на Василиа Ивановичя господаря Всея Руси самодержца». Третий орнаментальный ярус, идущий по нижней части венца, вновь заполнен сплетениями трав, листьев и цветами – стилизванными головками тюльпанов.
Стиль орнамента, его характерные элементы имеют восточное происхождение, но в то же время манера исполнения, равно как имитационный характер арабской надписи, свидетельствуют о том, что шлем делал русский мастер, хорошо владевший техникой инкрустации золотом и явно близко знакомый с декоративным оформлением турецкого оружия и доспехов. Такие высокопрофессиональные мастера, умевшие создавать парадное оружие, не уступавшее в роскоши восточным образцам, творили в Москве, в Оружейной палате…
Из надписи следует, что шлем, определенно, был изготовлен до 1547 года, в котором Иван Васильевич принял царский титул. Судя по размеру, шлем был изготовлен для юноши и использовался в ходе торжественных воинских церемониалов».
Информационная служба ГИВЦ Роскультуры в сообщении от 26.03.2009 поведала к сему: «…Научный руководитель Государственного историко-культурного музея-заповедника „Московский Кремль“ Алексей Левыкин рассказал, что верхний ярус шлема содержит стилизованный орнамент – имитацию арабской надписи – подтверждение того, что шлем делал русский мастер, „просто сымитировав иероглифы“».
Прочитав эти материалы авторитетных столичных инстанций, можно сделать однозначный вывод, что прекрасный во всех отношениях шлем – выдающееся творение русских мастеров Оружейной палаты.
Но далее шлем поехал экспонироваться в Астрахань, где волей случая его узрел один хорошо образованный иранский дипломат. О результатах этой встречи с прекрасным должила газета «Известия» в номере от 5 июня 2009 года:
«Расшифрована арабская надпись на шлеме Ивана Грозного. Генеральный консул Ирана Сейед Голамрез Мейгуни расшифровал арабскую надпись на шлеме Ивана Грозного, выставленного в астраханском Музее боевой славы. Дипломат утверждает, что выполненная на верхнем горизонтальном поясе царского шлема надпись переводится с одного редкого арабского диалекта как „Аллах Мухаммед“. Эти слова могут быть сокращенной версией известного выражения „Велик Аллах, и Мухаммед пророк его“…»241.
Уточню: перед нами не что иное, как символ веры мусульманина в сжатом виде: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк Его». Надпись выполнена весьма трудночитаемым, даже для самих мусульман, куфическим письмом в подражание ранним памятникам арабской письменности. Поэтому неудивительно, что отечественные знатоки оружия приняли ее за «имитацию» арабского текста. А просвещенный перс-мусульманин сумел разглядеть скрытый в ней смысл.
Однако мало правильно прочесть куфическую вязь. Необходимо столь же правильно расшифровать и древнерусский текст. А для этого мы поновим в ней орфографию и расставим правильно знаки препинания. Получится: «Шелом князя Ивана Васильевича, великого князя сына Василия Ивановича, господаря, Всея Руси самодержца». Тот факт, что в русской владельческой надписи упомянуты единовременно два титула и, соответственно, два реальных лица – «князь» (Иван) и «великий князь, господарь, Всея Руси самодержец» (Василий), заставляет предположить, что данный шлем был изготовлен для мальчика еще при жизни отца. На вырост, если можно так выразиться. Как впоследствии на вырост был изготовлен шлем уже для сына Грозного, трехлетнего царевича Ивана Ивановича, о чем шла речь выше242.
Но кто же и с какой целью мог изготовить роскошный шлем такого качества в Московской Руси между 1530 и 1533 годами, когда были еще живы оба венценосных рюриковича: отец и сын? Да еще с надписью «Аллах Мухаммед» куфическим письмом на арабском языке? Неужели русские мастера?
Прежде всего надо понимать: в младенческие годы Ивана Грозного не только не было в России «высокопрофессиональных мастеров, умевшие создавать парадное оружие, не уступавшее в роскоши восточным образцам», творивших, якобы, «в Москве, в Оружейной палате», но и самой Оружейной палаты, возможно, еще не было (впервые упомянута в источниках в 1547 году). Никаких оснований приписывать такого уровня работу русским мастерам, нет, как нет и никаких ее русских аналогов этого периода.
Поневоле приходит на ум только одна гипотеза: шлем сделан неким высокого класса мастером в Турции по заказу султана Сулеймана специально для подарка Василию Третьему, чтобы уважить его отцовское чувство243. Следует напомнить, что с 1523 между Московской Русью и Турцией были установлены обмен послами и мирные отношения, которые продолжались в общем и целом до 1541 года. В одно из таких посольств на пике добрососедства и мог быть сделан подобный подарок русскому суверену для его долгожданного сыночка.
Есть косвенное, но серьезное тому подтверждение: владельческая надпись маленькими русскими буквами идет ниже прославления Аллаха и Магомета, сделанного буквами очень большими и красивыми, стильными (куфика вообще чтима на Востоке как отменный декор для самых разных произведений прикладного искусства). Но вряд ли русский мастер – православный христианин – увлекся бы идеей стилизации до полного забвения религиозных приоритетов и стал бы так прославлять Аллаха и его пророка. Еще одно косвенное подтверждение – использование излюбленного турками цветка тюльпана в самом большом растительном орнаменте, идущем понизу шлема.
Единственное, что могло бы противоречить данной версии – форма этого боевого наголовья. Но сделанное Жуковым сравнение с раскопочными шлемами из Ипатьевского переулка снимает все сомнения: форма вполне восточная.
Можно лишь горько сожалеть, что этот изумительный по исполнению шлем был исхищен из Московского Кремля и находится сегодня в Королевской оружейной палате (Стокгольм), а потому не мог быть предварительно изучен русскими специалистами. Как пояснил в том же буклете Нильс Дрехольт, старший хранитель музея Ливрусткамарен, «при захвате Варшавы шведами под предводительством Карла Х Густава 30 августа 1655 г. было взято огромное количество трофеев как из Королевского дворца, так и из частных домов… Среди них и два великолепных русских шлема… Считается, что они были взяты поляками в Москве в 1611—1612 гг., в период Смутного времени». Что поделать…
Таким образом, мы вправе фиксировать заметное турецкое влияние на русское оборонительное оружие уже в первой трети XVI века.
* * *
Перенесемся теперь на сто лет вперед в XVII век и обратим свое внимание еще на один царский шлем. Это такой всемирно известный предмет, как «шапка ерихонская»244 Михаила Федоровича Романова (Россия, Москва, 1621 г., мастер Никита Давыдов; ОПМК №6). Перед нами бесспорный шедевр, один из самых прославленных и воспроизводимых, главный символ вообще русского оружейного искусства и самой Оружейной палаты Московского Кремля. В Переписной книге 1686/1687 шлем оценен в бешеную по тому времени сумму: 1175 рублей245.
Но! «Граненый купол этого шлема имеет восточное происхождение, о чем свидетельствует характер насеченного по его краю декора и выполненная в той же технике надпись: „Обрадуй правоверных обещанием скорой помощи от Аллаха и скорой победы“»246. Таушировка золотой проволокой, глубокая, не поверхностная, золота не пожалели. Она обильно украшает весь шлем. Надпись же идет по нижнему, самому широкому ярусу подвершия и выполнена явно той же рукой, что и весь остальной декор, включая широкие канты понизу и поверху и три короны, симметрично разбросанные по тулову.
Можно добавить, что считать науши и назатыльник выполненными другой рукой, нежели купол, нет никаких оснований, судя по всему их оформлению и по аналогам, о коих ниже. Шлем по происхождению – восточный весь целиком и полностью, выполненный, несомненно, в турецкой столице Стамбуле.
Вот такой главный шлем русских православных царей…
Примечательную характеристику этому шлему выдают сотрудники Оружейной палаты: «В художественной отделке шлема своеобразно сочетаются мотивы русского орнамента с восточными надписями и изображениями западноевропейских корон. Поражает великолепное мастерство таушировки золотом по булатной стали»247.
Чье мастерство? Чья булатная сталь? Где там «русский орнамент»? Чья рука делала «восточные надписи» и «западноевропейские короны»? И одна ли рука, или их было несколько? На эти вопросы официального ответа в музейных описаниях нет.
Спрашивается: в чем же заслуга, в чем вклад прославленного русского мастера Никиты Давыдова, что сделал он сам, лично, для этого выдающегося памятника искусства? За что он получил из казны награду: отрез венецианской тафты и английского сукна? В чем его искусство? Это вполне ясно.
Во-первых, он отломал «родное» завершение нанóсной стрелки, которое, скорее всего, было булатным прорезным («на проем»), наподобие того, что мы видим на аналогичных ерихонских шапках князя Ф. И. Мстиславского (ОПМК №7) и той, что привез из Стамбула наш дипломат А. О. Прончищев (ОПМК №8). На ней мог быть нейтральный растительный орнамент, как в первом случае, а могла быть и надпись типа «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его», как во втором случае. Скорее всего, именно она там и была, поскольку на шапке Прончищева, как и на шлеме Михаила Романова, и тоже на подвершии, насечена точно такая же золотая надпись: «Обрадуй правоверных обещанием помощи от Аллаха и скорой победы». Это шапка-двойник, явно сделанная в той же мастерской и украшенная, возможно, той же рукой. А значит, и завершения наносных стрелок могли быть одинаковы. Но такая надпись на царском шлеме, да еще на самом видном месте, была бы уж черезчур, вызывающе неуместна. Вот Давыдов и заменил ее на массивную эмалевую на золоте плашку – иконку архистратига архангела Михаила, покровителя русского воинства. Она стилистически никак не связана со шлемом в целом и исполнена далеко не столь прециозно, как таушированный декор, зато сразу придает шлему «православное звучание» (а кто там прочтет арабскую вязь на узком подвершии купола?).
Во-вторых, с этой же целью на подвершие, изначально не требовавшее никаких прикрас и находившееся в единой гармонии со всем декором, было надето явно «неродное», частично закрывающее его навершие, также сделанное эмалью на золоте, в которое должен был крепко вставляться, вместо перьев, золотой православный осмиконечный крест (упомянут в Росписи походной казны 1654 г.; другой запасной такой же крест хранился совокупно со шлемом).
В-третьих, с этой же целью все три насеченные золотом короны были дополнены православными осмиконечными крестами на центральном зубце, исполненными вопреки первоначальному авторскому замыслу, это очевидно, поскольку все кресты своими концами едва не упираются в декоративный нижний пояс подвершия, заметно нарушая пространственную композицию.
Наконец, по всему шлему, включая науши, оказались разбросаны жемчуга и драгоценные камни, также явно не предусмотренные первоначальным замыслом художника, поскольку золотые гнезда («касты» или «плащики»), в которых они крепятся, зачастую налеплены поверх орнаментов, порой закрывая их некстати, нарушая симметрию и гармонию, зато ослепляя созерцателя своим сиянием248. Всего, не считая жемчужин, использовано 95 алмазов, 228 рубинов и 10 изумрудов, из которых впечатление более-менее «родных» оставляют, возможно, только рубины, служащие для окантовки наушей. Хотя, судя по ближайшим вышеназванным аналогам, никакая окантовка для этих и без того стилистически единых и совершенных шлемов не предполагалась вообще.
Таким образом, цели и задачи, которые были поставлены перед русским мастером Никитой Давыдовым, совершенно ясны: превратить шедевр турецкого оружейного искусства в боевой аналог Шапки Мономаха – царский воинский походный венец. А для этого сделать шлем «православным» и «богатым». Что Давыдов и выполнил с честью, и был за то заслуженно вознагражден.
Улучшил или испортил лучший русский мастер исходный турецкий материал своим вмешательством, судить об этом – дело вкуса249. Нам важно подчеркнуть одно: обе главные царские «шапки» – как гражданская, так и военная, обязаны своим происхождением Востоку.
Рядом с вышеописанным «шедевром русского оружейного искусства» должны быть поставлены два другие, сделанные, скорее всего, в одной и той же мастерской Стамбула примерно в одно и то же время. Они уже упоминались выше: это ерихонские шапки Мстиславского и Прончищева250. Типологически они мало отличаются, разве что прончищевская вся сверху донизу, включая даже назатыльник, науши и козырек, испещрена благочестивыми мусульманскими изречениями. Те же ложчатые купола булатной стали, та же глубокая таушировка золотом…
Диаметр шапки Мстиславского на 7 мм меньше, чем у Михаила Федоровича; по этой или по какой иной причине, но Алексей Михайлович брал с собою в Смоленский и Рижский походы именно ее, а не отцовский парадный шлем. Предпочитая военный головной убор более цельный и стильный, хотя и менее помпезный. Возможно, поэтому у шапки Мстиславского появилось серебряное с камнями навершие, явно неродное, русской работы, почти полностью скрывающее подвершие. На котором, надо полагать, была такая же надпись, что и на двух других аналогах, почему его и постигла соответствующая участь. Других надписей на шлеме не было, что и уберегло его от более радикальной переделки.
Князь Мстиславский был гедиминович, знатнейший при семи царях человек, получал самое большое жалование в русском государстве – 1200 рублей в год. Был претендентом на престол в 1598 году после смерти Федора Иоанновича. Во время Смуты он неизменно оказывался на ведущих ролях, возглавлял Семибоярщину, вполне мог стать монархом в 1606 и 1611 гг., а по завершению Смуты его кандидатура на престол рассматривалась наравне с Романовым. Ерихонская шапка могла быть поднесена ему в дар дальновидной дипломатией султана в те годы «на всякий случай». Мстиславский умер в 1622 году, тогда же его шапка попала в казну; годом раньше свою завершенную работу сдал туда Никита Давыдов. Можно только гадать, каким образом у царя и у князя оказались столь аналогичные предметы примерно в одно и то же время. Вероятно, все это были посольские дары, подносимые в те непростые годы, исходя из конъюнктуры. Скорее всего, дар царю был сделан уже после избрания Михаила, чем и объясняется появление на тулове шлема трех европейских корон (как европейцы считали русских азиатами, так турки считали нас, русских христиан, европейцами). Что же до Прончищева, он привез свою шапку из посольского вояжа в Стамбул в 1632—1633 гг. Не получил ли он ее там также в подарок? Стилистическая и фактурная близость всех троих предметов такова, что позволяет считать их сделаными одновременно и в одном месте, одними мастерами, а уровень исполнения вполне тянет на султанский дар.
Попав однажды в Россию, эти ерихонские шапки, несомненно, оказали серьезное влияние на эстетику русского вооружения. При этом даже «изящная графика восточных надписей привлекала внимание русских оружейников. На некоторых предметах защитного вооружения русской работы XVI—XVII вв. можно видеть имитации этих надписей, исполняющих роль элементов декора»251. Влияние продолжалось и дальше, вплоть до XX вв. Так, график и скульптор Ф. П. Толстой надел иерихонскую шапку на голову Александру Первому в барельефе «Родомысл девятогонадесять века», посвященном победе в Отечественной войне 1812 года. В 1942 году то же самое сделал в отношении Александра Невского автор эскиза одноименного ордена И. С. Телятников, а в 1947 году вариант «ерихонки» оказался на голове Юрия Долгорукова на медали в честь 800-летия Москвы. И т. п. Это поистине главный шлем русской истории.
В ОП хранятся и другие шлемы, свидетельствующие о глубоком интересе и пиетете русских в отношении восточного оружия. Например, персидской работы XVI века своеобразные шлемы с личинами, подобные тем, что перенимались русскими у причерноморских кочевников в XII—XIII веках. Или медный (!), покрытый чеканкой и гравировкой, а некогда еще и вызолоченный шлем персидской работы XVII, принадлежавший, как ни странно, такому завзятому и рафинированному западнику, как князь Василий Голицын. Как пишут с удивлением сами комментаторы: «Его двор сравнивали с дворами итальянских государей. Современники считали князя сторонником прокатолической ориентации в политике и культуре. Интересно отметить при этом, что почти все оказавшееся в казне вооружение В. В. Голицына имеет восточное происхождение или выполнено в традициях восточного оружейного искусства»252.
Объяснение этому видится только одно: эстетическое обаяние Востока таково, что действовало даже на таких людей, как Голицын, помимо их рассудка и воли.
173
Например, на сюжет «Битва новгородцев с суздальцами» или с изображением воинов-святых – Борис и Глеба, Александра Невского и др.
174
Например: Беляев И. Д. История военного дела от воцарения Романовых до Петра Великого. – 2-е изд. – М., Либроком, 2011; Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. – Ч. 1. – 2-е изд. – М., Кучково поле, 2008; Волков В. А. Войны и войска Московского государства. – М., Эксмо; Алгоритм, 2004; Кирпичников А. Н. Военное дело на Руси в XIII – XV вв. – Л., Наука, Ленинградское отделение, 1976; Скрынников Р. Г. На страже московских рубежей. – М., Московский рабочий, 1986 и мн. др.
175
Комаров И. А. Вступительная статья к кн.: Государева Оружейная палата. – СПб., Атлант, 2002. Здесь же – описание 100 избранных предметов по отдельности, данное лучшими специалистами соответствующего профиля.
176
В XV—XVI вв. отличия достигли своего максимума, особенно с появлением т.н. «максимилиановского» доспеха в Европе.
177
В Оружейной палате хранится полный рыцарский доспех, но… детский (ОПМК №27), который, по мнению некоторых исследователей, мог быть сделан на заказ для маленького царевича Алексея Михайловича в 1634 году. Но в 1-й трети XVII века ни в одной стране Европы никаких доспехов уже давно никто не носил: это ведь была эпоха мушкетеров. Вспомним, что Дон Кихот, добывший на чердаке и отчистивший старые доспехи, выглядел в глазах современников совершенно нелепым анахронизмом, а ведь Сервантес писал свою книгу еще в XVI веке и выпустил в 1605. Так что вряд ли еще через тридцать лет для русского царевича стали бы делать полный европейский доспех даже как игрушку.
178
Европейцы, использовавшие круглые щиты еще во времена викингов, практически отказались от них уже в эпоху крестовых походов. Интересно: по мнению современных историков оружия Кирпичникова и Надольского, крайне популярный в средние века щит «павеза» (высокий, четвероугольный, с вертикальным желобом посредине) не пришел с Запада на Русь, а напротив, был создан на Руси в XII веке, откуда через Мазовию и Тевтонский орден распространился вначале в балтийском регионе, а потом и по всей Европе (Кирпичников А. Н. Военное дело на Руси в XIII – XV вв. – С. 47).
179
Длина лезвия бердыша, обычно составлявшая 40—50, максимум 80 см, в отдельных случаях доходила и до полутора метров.
180
Эта особенность бросается в глаза, к примеру, на десятках иллюстраций батальных сцен, изготовленных Гансом Бургкмайром и мастерами его круга для книги «Weisskunig» («Белый король») в 1514—1519 гг.
181
Тангутские и чжуржчэньские технологии основывались на китайских изобретениях.
182
О холодном оружии Востока существует обширная литература. Интересующимся именно саблями и кинжалами можно рекомендовать чрезвычайно содержательную, основательную и детальную книгу-альбом коллекционера и большого знатока предмета К. С. Хайдакова «Шамширы» (М., Барс, 2013).
183
Хайдаков К. С. Шамширы. – М., Барс, 2013. – С. 63. По происхождению булаты подразделяются на индо-персидские, сирийские, египетские, истамбульские, бухарские, позднее добавились кавказские.
184
В описях изделия из русского псевдобулата именуются как сделанные из «красного булата», «красного железа», «полосы булат синей Московский выков» и др.
185
Ларченко М. Н. К вопросу о работе так называемых «польских» мастеров в Оружейной палате во второй половине XVII века // Государственные музеи Московского Кремля. Материалы и исследования. Вып. 4. – М., 1984. – С. 185—186.
186
Russian arms and armour. Selection and introduction by Alexander Sedov and Mikhail Portnov. Notes on the plates by Elena Tikhomirova and Tatyana Martynova. – Л., Аврора, 1982. – С. 15. Книга составлена на основе экспонатов Оружейной палаты Московского Кремля и Государственного Исторического музея.
187
Государева Оружейная палата. – СПб., Атлант, 2002. – С. 23—24.
188
Мартынова Т. В., Тихомирова Е. В. Золотой век русского оружейного искусства. Царское оружие и конское убранство XVII века (из собрания Государственной Оружейной палаты). – М., Восхождение, Скрижали-С, СП «Эллис Лак», 1993. – С. 24 ненум. Мартынова и Тихомирова – научные сотрудники ОП. К сожалению, при подготовке макета книги издатели забыли про пагинацию: все страницы остались ненумероваными, нумеровать их мне пришлось самому.
189
Государева Оружейная палата… – С. 23.
190
Передельная сталь получалась в результате кристаллизации жидкого чугуна (технология изобретена в Китае в VII в., в Европе применялась с XVI в.).
191
Голицынская летопись гласит: ««Лета 6897 (1389) вывезли из Немец на Русь арматы [пушки; ср. украинское «гарматы»] и стрельбу огненную и от того часу уразумели в них стреляти». На этом основании Н. М. Карамзин развивал версию о европейском происхождении русской артиллерии. Но у русских она уже была и до указанной даты.
192
Подробности см. в кн.: Келли Дж. Порох. От алхимии до артиллерии. – М., КоЛибри, 2005.
193
См.: Чулууны Далай. Монголия в XIII—XIV веках. – М., Наука. – 1983. Кстати, в Индии в этот период иногда тоже использовались пушки, но сделанные… из рулонов кожи. Об огневых приборах на повозках, принадлежащих властителю Дели, написано в индусских текстах за 1258 год.
194
Буниятов З. М. Комментарий // Шихаб ад-Дин Мухаммад ибн Ахмад ан-Насави. Сират ас-султан Джалал ад-Дин Манкбурны (Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны). – М., Восточная литература 1996. – С. 326.
195
Заслуги именно сирийских ученых в средневековой гонке вооружений вообще поражают: ведь знаменитый «греческий огонь», позволивший Византии на несколько столетий продлить свое существование и так и оставшийся неразгаданным секретом в истории, был изобретен сирийским архитектором Каллиником в 673 году. Продвинутые химики арабского Востока – прямые наследники большой и древней научной традиции.
196
Попавшая в руки знаменитого немецкого ученого и оккультиста Альберта Великого «Книга огня для пожигания врагов» Марка Грека, содержащая рецептуру изготовления черного пороха, написанная на рубеже XIII—XIV вв., является переводом на латынь с арабского, сделанным в мавританской Испании.
197
Одна из них хранится в Санкт-Петербурге, две в Париже, одна в Стамбуле.
198
В Музее армии (Париж) сохранилась ручная бомбарда, изготовленная в 1390—1400 гг.
199
С XV века стали использовать вместо железа легированную бронзу.
200
Такое орудие, состоящее из семи укрепленных на одном лафете стволов, применялось в Сибирском походе Ермака. А знаменитый автор «Царь-Пушки» Андрей Чохов изготовил для защиты Китай-Города аж… 100-ствольное орудие.
201
Среди иллюстраций Ганса Бургкмайра к «Вейскунигу» – этой иллюстрированной энциклопедии средневековья – можно найти и изображение мастерской по изготовлению пушек в момент ее посещения императором Максимилианом.
202
По данным, записанным мною в Стамбуле, одна из них имеет длину ствола 346 см, вес 11 тонн, калибр 370 мм, вес ядра 218 кг; вторая – длину ствола 424 см, вес 15 тонн, калибр 630 мм, вес ядра 285 кг.
203
В 1467 году греком Критобулосом был описан весь процесс отливки турецкой супербомбарды; он весьма впечатляет.
204
Лучшее представление об огнестрельном оружии Османской империи дают работы исследователя Г. Агостона, венгра по происхождению. См., например: Ágoston G. 1) Ottoman artillery and European military technology in the fifteenth and seventeenth centuries // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 1994. T. 47. P. 15—48; 2) Guns for the Sultan. Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire // Cambridge Studies in Islamic Civilisation. N.Y.: Cambridge University Press, 2005; 3) War-winning weapons? On the decisiveness of Ottoman firearms from the siege of Constantinople (1453) to the battle of Mohács (1526) // J. Turkish Studies. 2013. V. 39. P. 129—143; 4) Firearms and military adaptation: the Ottomans and the European military revolution, 1450—1800 // J. World Hist. 2014. V. 25. P. 85—124. И др.
205
После монгольского завоевания в 1236 году в этом городе была ставка Батыя. При хане Берке, внуке Чингисхана, Булгар стал центром Булгарского улуса Золотой Орды. В результате победы 1376 года Москвой был получен откуп в 5000 рублей.
206
В 1422 году при производстве «зелья» в промышленном, по тем временам, масштабе случился первый ужасающий «пороховой пожар», от которого выгорела вся столица. В дальнейшем подобные пожары из-за возгорания пороха будут случаться еще.
207
Каргалов В. В. Конец ордынского ига. – М., Наука, 1980.
208
Вельяминов-Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. – Труды Восточного отделения имп. Археологического общества, 1864. – Ч. 10, с. 48—49.
209
Исторический архив Артиллерийского музея в Ленинграде, ф. 1, №21, л. 2.
210
«Дополнения к актам историческим». – СПб., 1872 г. – Т. III.
211
Встречается мнение, что «Новый перс» был отлит в подражание иностранной работы трофейному «Персу» (калибр 160 мм), отлитому из бронзы в 1619 г. На его плоской тарели в венке из дубовых листьев – поясное изображение перса с усами и в чалме. Но данный ствол, во-первых, явно вторичен по отношению к пушке Чохова; во-вторых, неизвестно, видел ли его Осипов, а на чоховских пушках воспитывались поколения русских литейщиков; а в-третьих, этот импортный ствол – бракованный, он не образец для подражания, поскольку его канал испещрен глубокими раковинами и трещинами, образовавшимися при отливке. Пушка Осипова гораздо лучше.
212
«В Москве каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем звонил».
213
Первый тщательный обмер был произведен историком Н. И. Фальковским в 1946 году. Повторный, еще более подробный – в 1980 году специалистами Артиллерийской академии. В 1990-е гг. в Царь-пушку залезал для осмотра также заведующий сектором оружия музеев Московского Кремля И. А. Комаров.
214
По расчетам инженера Г. М. Захарикова, произведенным с учетом материала, из которого делались ядра на Руси в то время, масса ядра из песчаника составляла для Царь-пушки около 750 кг. Это масштаб именно стенобитного орудия. Но судя по отсутствию характерных царапин внутри дула, ядрами из Царь-пушки, все же, так и не стреляли. Да и куда было стрелять, если ее не вывозили из Москвы?
215
См.: http://mreen.org/alexuslob/car-pushka-taktiko-tehnicheskie-harakteristiki.html. Автор использованного здесь материала благодарит за предоставленные сведения с. н. с. Оружейной палаты А. Н. Чубинского.
216
Если считать 1 фунт = 0,4535 кг.
217
Александр Широкорад. Последний довод султанов и королей. Знаменитая московская Царь-пушка не дробовик, а классическая бомбарда. – Национальная оборона, №4, 2018.
218
Там же.
219
В том числе по техническим параметрам: Дарданелльская пушка – 18,6 тонн; легендарная Базилика, по современным подсчетам, весила примерно 32 тонны; а наша Царь-пушка – более 38 тонн. Толщина дульных стенок стамбульских бомбард – 14 см, нашей – 15 см. Дарданелльская пушка имеет калибр ядер 630 мм; наибольшая из стамбульских пушек также имеет калибр 630 мм и моноблочный ствол; наша – также моноблок, но ее калибр 890 мм.
220
Царь-пушка и выставлялась, по велению Бориса Годунова, у Лобного места на Красной площади для всеобщего обозрения как некое чудо, без умысла боевого применения. Правда, в 1591 году ее привели в боевую готовность для защиты главных ворот Кремля, когда ожидали прихода войск Казы-Гирея, но татары так и не решились подойти близко. Транспортировать же такую махину, чтобы разбивать стены крепостей вдали от русской столицы, было черезчур сложно, ведь даже только по Москве ее передвигали на катках с помощью 200 (!) лошадей и большого количества людей.
221
Государева Оружейная палата. – СПб., Атлант, 2002. – С. 371.
222
Там же.
223
Там же, с. 385.
224
Куяк (от монгольского хуяг – доспех) – общее название восточных и русских доспехов бригантинного типа (когда металлические пластины нашиваются на плотную тканевую или кожаную одежду), а равно бригантинных доспехов коренных жителей Сибири и Аляски. Под куяком на Руси понимали любой прикрывающий туловище воина пластинчатый доспех, за исключением зерцального, латного и кольчато-пластинчатого. Согласно А. Н. Кирпичникову, такие пластинчатые доспехи бытовали на Руси в период с XIII по XVII вв. К этому типу относится золотоордынский панцирь-дегель рубежа XIV—XV веков, хранящийся в Эрмитаже под каталожным номером 3.0.6855.
225
Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. – СПб., 1899. – С. 32—33.
226
См.: S. Herberschtein. Moscoviter wunderbare Historien. – Basle, 1567. – P. CXXII.
227
Банзаров Д. Д. О восточных названиях некоторых старинных русских вооружений // Записки Санкт Петербургского Археологическо-Нумизматического общества. – СПб., 1850. – № Т. 2. – С. 354.
228
Государева Оружейная палата… – С. 317.
229
Аствацатурян Э. Г. Турецкое оружие в собрании Государственного исторического музея. – СПб., 2002. – С. 72.
230
Бобров Л. А., Худяков Ю. С. Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени (XV – первая половина XVIII в.).. – СПб., 2008. – С. 479.
231
Известно, что подобный пластинчатый доспех был на Дмитрии Донском в Куликовской битве.
232
Флэтчер Д. О государстве Русском. – СПб., 1905. – С. 67.
233
Государева Оружейная палата… – С. 318.
234
Государева Оружейная палата… – С. 326.
235
См.: Беляев Л. А., Панова Т. Р. Дворец царя Алексея Михайловича XVII века. Историко-художественная реконструкция. – М., МГОМЗ, 2013. – 2-е изд.
236
Государева Оружейная палата… – С. 327.
237
Кирпичников А. Н. Русские шлемы X—XIII вв. – Советская археология, 1958, №4.
238
Кирпичников А. Н. Русские шлемы X—XIII вв.
239
Подробно о нем см.: Стерлигова И. А. «Шапка с Деисусом» как памятник культуры Древней Руси // Музеи Московского Кремля: Материалы и исследования». Вып. 22. – Москва, 2014.
240
Жуков К. А. Русские сфероконические шлемы развитого средневековья // Воин №18, 2005, стр. 18—27.
241
См. электронную версию статьи на сайте http://izvestia.ru/news/452375.
242
Этот «детский» шлем имеет, однако, 18,3 см в диаметре, всего ровно на 3 см меньше, чем вполне «взрослая» ерихонская шапка князя Ф. И. Мстиславского. Он явно делался «на вырост». Традиция?
243
Аналогичное мнение высказала с. н. с. Музеев Кремля Елена Арутюнова в интервью ИТАР ТАСС после выступления иранского генконсула. Но в литературе оно пока не отражено.
244
Ерихонские шапки, «ерихонки» были наголовьем царей, князей, воевод – не простых воинов. В Переписной книге Оружейной палаты 1686/1687 гг. ерихонским шапкам отведена целая отдельная глава. Купола этих шапок были разными – коническими и сфероконическими, но, как правило, все с наушами, назатыльником и козырьком со стрелой.
245
Для сравнения: все строительство бесподобного храма Рождества Богородицы в Путинках (1649—1652) обошлось в 800 руб.
246
Государева Оружейная палата… – С. 305.
247
Мартынова Т. В., Тихомирова Е. В. Золотой век русского оружейного искусства… – С. 27 ненум.
248
Кстати: русские, как и персы, турки, индо-арии, по большей части не обтачивали драгоценные камни, оставляли им неправильную, неровную природную форму, проявляя тонкий вкус. Они справедливо понимали: в этом есть своя прелесть.
249
Нет никакой возможности согласиться с точкой зрения, якобы Давыдов, проходивший в Стамбуле обучение секретам турецкого оружейного мастерства, приделал-де шлему новые науши взамен почему-то где-то утраченных и самостоятельно натаушировал три короны там, где их ранее не было (Russian arms and armour. Selection and introduction by Alexander Sedov and Mikhail Portnov… – С. 19). И науши, безусловно, «родные», сделанные и орнаментированные теми же руками, что и весь шлем в целом. И короны, судя по стилю работы, тоже «родные», изначально сделанные на шлеме турецким художником-оружейником. Иначе, во-первых, они расположились бы чуть ниже или были бы иначе скомпонованы, чтобы не пришлось экстренно приделанными крестами «въехать» под самый орнаментальный пояс. А во-вторых, Давыдов вряд ли стал бы своему царю навязывать корону в европейском, «латинском» стиле, в то время как для турка русский царь-христианин, ради которого он старался, был, конечно же, «европеец». Давыдов начал работу в Оружейной палате в 1613 году очень молодым человеком (умер в 1669). Сомнительно, что он бывал в Стамбуле до того, юношей, обстановка Смутного времени к тому не располагала. Артель же он возглавил в 1620-е годы, когда шлем уже был доделан. Стилистика эмалевой иконки св. архангела Михаила и навершия никак не соотносится со стилистикой шлема в целом, не говоря уж о камнях, приделанных поверх виртуозных «родных» золотых орнаментов. Вряд ли у него бы поднялась рука на такое искажение турецкого шедевра, если бы он к тому времени уже стажировался в Стамбуле…
250
В султанском дворце Топкапы в Стамбуле хранятся и другие роскошные ерихонские шапки – «родные сестры» нашим трем вышеописанным. Все они датируются XVI – началом XVII вв. Начиная со сплошь инкрустированного золотом и драгоценными камнями шлема самого Сулеймана Великолепного (инв. №2/1187). Другой ценнейший шлем XVI века такого рода (инв. №2/1192) сплошь украшен золотым цветочным мотивом в стиле «саз». Есть и ложчатые, как в Оружейной палате. Часть дворцового собрания, насчитывавшего более 10 тыс. предметов вооружения, в том числе богатую подборку шлемов, была передана в Военно-исторический музей Стамбула. См.: Topkapi Palace. – Istanbul, Aksit, 2005. – P. 110—111, 119.
251
Государева Оружейная палата. – СПб., Атлант, 2002. – С. 309.
252
Государева Оружейная палата. – СПб., Атлант, 2002. – С. 312.