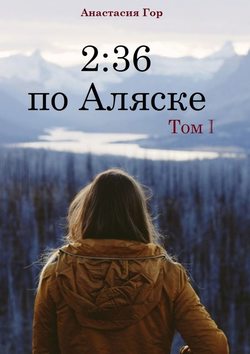Читать книгу 2:36 по Аляске. Том I - Анастасия Гор - Страница 3
Часть I: Кошмарный сон
1. Сумрачный лес
Оглавление«Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу…»
Данте Алигьери «Божественная комедия»
Запись.
Что первым приходит вам на ум, когда вы слышите словосочетание «конец света»? Пылающий метеор, несущийся к Земле на сверхскоростях? Повисший в темном бархате неба космический корабль пришельцев? Смертоносный вирус, превративший человечество в стадо бездумных голодных зомби? Или атомная война, учиненная самими людьми? Вам приходит на ум все, что угодно, и это «все» обязательно ассоциируется с массовой паникой и хаосом, ведь как не паниковать, когда знаешь, что уже скоро исчезнешь с лица планеты вместе с остальными семью миллиардами? В голову способен прийти любой сценарий, кроме одного: конец света необязательно должен быть шумным и даже заметным.
Это случилось тихой ночью в конце августа, когда еще достаточно тепло, чтобы устраивать барбекю на открытом воздухе или ночевать в компании друзей-экстремалов в палатке посреди леса, но когда к вечеру достаточно холодает, чтобы натянуть поверх тонкой майки вязанный свитер. Мы все знаем такие дни – пожалуй, самые счастливые за весь год, когда начинает казаться, что цветущая вокруг жизнь никогда не померкнет, а осень не грянет вместе с беспощадной зимой. Лично я всегда любила лето, даже несмотря на то, что на Аляске оно куда холоднее обычного. И все же эта незабываемая атмосфера тлеющих углей и звездного неба… Но после одного единственного четверга мой ажиотаж от этой поры навсегда поубавился.
27 августа. 2:36, застывшее на всех часах – настенных, наручных, настольных. Те, кто еще не спал в это время суток, вдруг разом уснули. И уже не проснулись.
Во всем студенческом городке под названием Фэрбанкс в штате Аляска утро наступило лишь для меня одной. Вот только это то же самое, что уснуть в десять вечера на крутой вечеринке и, проснувшись в семь часов среди безжизненных и синеватых от алкоголя тел, не понять, какое грандиозное ты пропустил веселье. Примерно так и я не поняла, что нахожусь в комнате абсолютно одна, а не вместе с двумя соседками, носами уткнувшимися в матрас. Ведь этих соседок, можно сказать, больше здесь и не было. По крайней мере, в привычном понимании этих слов.
Найдя на тумбе свои домашние очки, первой я попыталась разбудить Верити. Когда, столкнув ее с постели на пол, я не обнаружила никаких признаков возмущения и элементарной реакции, я первым делом приложила два пальца к артерии на ее шее, а уже спустя пару секунд убедилась, что сердце не бьется. Бледная, даже немного лиловая, она отчетливо выделялась на фоне темного дубового пола, а рыжие волосы, словно языки пламени, обрамляли и пожирали осунувшиеся лицо. Она была без дыхания, без движения, без души в пустой оболочке – бессознательная кукла, за которую я умудрилась принять свою соседку.
Что обычно случается с теми, кто ни с того ни с сего узнает в своих близких новоиспеченных мертвецов? Случись это с вами, вы бы запаниковали. Случись это со мной, я бы хладнокровно взяла себя в руки и позвала на помощь – такого мнения я всегда была о собственной стойкости до того дня. На деле же я тоже запаниковала. Вероятно, еще больше, чем стали бы паниковать многие на моем месте.
– Стефани! Верити мертва, Стефани! – вопила я так, что начало саднить горло.
Выронив из рук одеяло Верити, которое опрокинулось прямиком на ее лицо и, к счастью, хотя бы наполовину скрыло от меня тело университетской эмблемой в виде белого медведя, я отпрыгнула в сторону и едва не повалилась на кровать Стефани, стоящую по соседству в углу.
Честно сказать, мы со Стефани никогда не были шибко близки. С Верети – да, а вот Стеф… Нам никогда не удавалось найти общий язык, но мне было достаточно и того, что она показывала себя вполне примерным сожителем: всегда чистила после себя душевую кабинку от выпавших волос, не забывала выкидывать просроченные продукты, гладко заправляла постель… Кудри ее, кстати говоря, были темными и густыми, а потому точно оказались бы заметными на белом-то кафеле душевой кабины. Еще у Стефани были серые глаза – идеальное сочетание холодности и великолепия. Помимо красоты и хозяйственности, она обладала невероятно острым умом, но даже этот ум не уберег ее от вечного сна.
– Стефани! – снова вскричала я и дернула девушку за рукав ее фланелевой салатовой сорочки; сильнее, чем дергала обычно, когда будила ее перед первой парой, а оттого Стефани неуклюже соскользнула с постели вниз вместе с подушкой.
И вот уже два бездыханных тела лежало у моих ног.
Я почувствовала первые признаки панического удушья. Безвольно опустившись на пол посреди комнаты, я просидела так около пятнадцати минут, молча приходя в себя, пока истерика не обуздала рассудок окончательно. И я заплакала. Не знаю, сколько именно я рыдала, содрогаясь в конвульсиях на собственном прикроватном коврике, надеясь, что кто-то услышит меня. Придет на мои надрывные всхлипы и, заслышав жалобный вопль, героически ворвется в комнату, избавив меня от участи переживать эту трагедию в одиночку. Две смерти подряд, без очевидных ножевых ранений, травм и прочего – такого ведь просто не бывает! А еще не бывает того, чтобы меня никто не услышал и не пришел; чтобы точно так же, как Верити и Стефани, меня покинули все остальные.
Но в этом мире случается даже то, чему случиться на первый взгляд просто не суждено.
– Томми…
Это было третье имя, сорвавшиеся с моих уст в то утро. Затем Лен. Кирилл. Сьюзен. Наша комната располагалась напротив комнаты парней-второкурсников – и они были первыми, кого я посетила, когда все же нашла в себе силы дотянуться до двери и очутиться в коридоре.
Айзек. Глория. Приветливый белокурый парнишка по имени Мишель. Здешняя «малышка на миллион» Виви. Снимающий на первом этаже комнату преподаватель по физике мистер Бэйтман со своей женой Стэйси…
Их было много, точнее – все. Если зайти в комнату и оглянуться, то не заметишь ничего особенного: уютная спальня подростков, отсыпающихся после напряженной учебной недели. Но это не подростки – это Тела. Так я стала звать их после того, как поняла, что Тел слишком много, чтобы помнить всех поименно или же считать трупами. Нет, они не трупы… Они – вечно спящие. Так думать проще, чем принимать тот факт, что ты прогуливаешься по университетскому кампусу как по мавзолею. Тем более то, что случилось с ними, вовсе не смерть. Это другое. Так мне казалось и кажется до сих пор. Они – моя единственная компания, потому что за все сорок восемь дней я не встретила никого, у кого в груди по-прежнему бы билось сердце.
Да, полтора проклятых месяца! Прежде и думать не приходилось, что я могу провести столько времени наедине с собой, ни разу не набрав ничей номер на сотовом телефоне. А на этот сорок девятый день должна была кончиться и моя последняя пара контактных линз, которые я и так ношу, не снимая, уже целые сутки. Видимо, именно из-за этого глаза у меня сейчас слезятся, как у олененка Бэмби при виде застреленной мамочки. Ой… Это было слишком грубо, да?
Странно, что мне до сих пор есть дело до этики. Если больше не существует людей, то не существует и нравственности. Эта идея пришла мне на третьи сутки моего одиночества. Вероятно, от голода, пока я брела по затхлым пустошам и не наткнулась на полную съестного круглосуточную закусочную с такой же спящей официанткой за кассой в поношенном фартуке, на котором еще виднелись пятна засохшего кетчупа. Конечно, стоило мне раздобыть заплесневелый сэндвич, как этот философский настрой тут же прошел, однако… Когда ты один, невольно начинаешь мыслить иначе.
Раньше я считала, что в одиночестве нет ничего страшного. Как известно, люди делятся на два типа, – интроверты и экстраверты, – но Верити звала их иначе: тугодумы и прищепки. Тугодумы – те, кто еще не понял, как страшно остаться совсем одному, а прищепки – те, кто в силу собственной природной предрасположенности рождены с этим осознанием, и от страха сего не могут вынести и минуты вне рамок общества. Раньше я глумилась над Вер из-за этого. Она казалась мне наивной, ведь сама считала, что не относится ни к первой группе, ни ко второй. Интересно, чтобы она сказала сейчас, будь на моем месте – в истоптанных кедах на пол пути к границе соседнего штата, с походным рюкзаком за плечами и с почти разрядившимся плеером, музыка в котором почти сошла на шипение из-за севшего аккумулятора? Зная Верити, ее отвагу, ее решимость, бескомпромиссность и умение выбираться из любой передряги, она бы… плакала. Ревела бы как младенец, хуже меня. А затем собралась бы с духом и дошла до Орегона, чтобы вернуть родных.
Я лучше Верити? Я сильнее Верети? Нет, но буду.
В кармашке осталась последняя пачка мармеладных мишек. После этого не помешало бы снова отыскать какое-нибудь пристанище, ведь на одних долгопортящихся сладостях не продержаться, а спать на хворосте под открытым небом слишком жутко и небезопасно в связи с прогулками гризли после заката и убийственным холодом. Впрочем, я почти и не спала толком. Лишь окончательно выбившись из сил, – либо из-за долгой дороги, либо из-за не менее долгих отчаянных рыданий, когда психика оказывалась на гране срыва, – я провалилась в долгожданное забытье, а, вынырнув на поверхность реальности, снова погружалась в неизменный кошмар. Единственным спасением от депрессии стал алкоголь. Именно благодаря ему мне периодами даже удавалось позабавиться поголовной спячке, но по его же вине за целых полтора месяца я не преодолела и половины Аляски, слишком часто задерживаясь на заправках за очередной бутылкой бурбона. Однако, пережив шестое по счету похмелье за две недели, в приступах рвоты я сердечно поклялась бросить это занятие и завязала. Наверно, это был самый короткий период алкоголизма за всю историю.
Пересекая очередную крутую речушку вдоль моста, я остановилась над водой, чтобы взглянуть на отражающую солнце гладь, как на своеобразное кривое зеркало. Видеть собственное лицо было трудно, ведь в нем черты лиц совсем иных – моего отца, моей мамы, сестры, брата и даже тети. Каждая линия так или иначе была связана с ними и о них же напоминала. От отца мне досталась свойственная южанам смуглая кожа с россыпью веснушек, гроздями усеявшими тело в некоторых местах, широкие скулы и достаточно высокий рост, в котором я уже к четырнадцати годам превосходила свою мать, хрупкую и русую, как большинство прибалтийцев, из которых она происходила. Глаза у нее, цвет которых достался мне, были зелеными, в обрамлении почти незаметных ресниц – светлых, переливающихся на солнце, как пшеничные колосья. Ей неизменна шла эта черта, но на мне бы точно смотрелась ужасно. По этой причине я и благодарна, что во мне было больше от юга – темные волосы да страсть к испанской сангрии. Джесс, – моя младшая сестра, – ненавидела сангрию. Быть может, поэтому мы с ней так часто ссорились до моего отъезда на Аляску. Нет-нет, не из-за предпочтений в алкоголе, но из-за противоположных характеров – севера от матери в Джесс было даже больше, чем во мне юга от отца, и под «севером» я подразумеваю совсем не внешность.