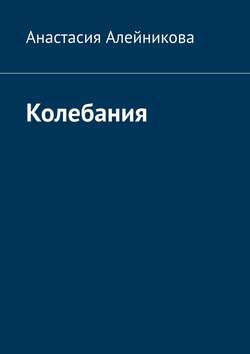Читать книгу Колебания - Анастасия Романовна Алейникова - Страница 10
Часть первая
Глава 2
6
ОглавлениеУзкая старая батарея вдавливалась в тело, причиняя неудобства, но приятно согревала. Свет, падающий сзади, из большого во всю стену окна, незанавешенного ничем, бледный, зимний, будто убирал контраст у каждого оттенка, и весь второй этаж становился как-то бледнее. Выделялись лишь тёмно-зелёные огромные листья растений, напоминающих тропические, – названий Яна не знала, – и они перекрещивались между собой, создавая узорчатые тени на выцветшем деревянном полу. Гигантские горшки с этими растениями, старые, трапециевидные и квадратные, светло-бежевого цвета, стояли вдоль всего окна. Окно заменяло собой полностью одну стену, и за ним начиналась небольшая терраса, вход на которую был воспрещён, а на двери висел замок. Горшки с растениями стояли нестройным рядом, группировались в беспорядке, прижимались друг к другу вплотную и образовывали широкие коридоры. Весь второй этаж Старого гуманитарного корпуса являлся местом загадочным и наиболее бестолковым. Из вещей важных и необходимых там располагались столовая и актовый зал, но и то, и другое вместе занимало лишь треть этажа. Столовая находилась посередине большим прямоугольником, а актовый зал был с ней рядом, но перед собой имел обширное пустое пространство, вроде коридора, не занятое ничем. Там-то и было устроено администрацией нечто вроде ботанического сада, уголка природы. Зелень была повсюду. Листья тёмные, глянцевито-блестящие, гладкие, напоминающие спины морских жителей, серебристо-зеленоватые, пыльные и высохшие, слегка пожелтевшие и травянистые – листья всех цветов, размеров и формы сгибались и нависали над теми, кто поднимался туда, с высоты разнообразных стволов и стеблей, каждый из которых был выше человеческого роста или вровень с ним. Буйство диковинной зелени, неожиданно встречающееся на пути того, кто привык уже к пыльным доскам и потрескавшейся штукатурке стен, посередине прерывалось чем-то, что при возможности взглянуть сверху напомнило бы серебристую морскую раковину. Это была широкая винтовая лестница, совершающая всего один оборот, полукругом уходящая вниз, на первый этаж. Ступени её были светло-серые, а с обеих сторон она защищала спускавшихся студентов и преподавателей прочными вертикальными перекладинами металлических перил. На противоположной стене, за которой и начинался актовый зал, слегка под наклоном висел огромный портрет Ломоносова, и более на стене не было ничего. Когда дневной свет мерк, портрет освещался тусклым желтоватым светом прямоугольных ламп, рядами идущих по потолку, половина из которых была неисправна. Ломоносов отрешённо взирал на пустующую часть этажа, на стеклянную стену напротив и на горшки с растениями. Знай он, что творится в другой части, за столовой, скучающе-печальное выражение его лица, вероятно, изменилось бы, поскольку висеть среди пятнадцати старых деревянных шкафов, закрытых на замки и наполненных тем, о чём никто и не знал, в постоянном пыльном сумраке из-за отсутствия окон, среди картонных коробок и забытых чьих-то вещей он едва захотел бы.
Шум из столовой удивительным образом обрывался в тропической части этажа. Столовая была переполнена, как и всегда на большом перерыве; толстая дверь в неё никогда не закрывалась, но ни запаха котлет и супа, ни гула голосов не долетало до Яны и Лизы, расположившихся, будто два беспризорника, не нашедших иного места, у батареи и окна, между двумя огромными горшками.
– Снег пошёл! Опять, и даже сильнее, – сказала Лиза, стоявшая к окну боком, прислонившись к шероховатому бежевому горшку.
Яна, сидевшая на батарее, за которой начиналось окно, словно бы начинался мир, обернулась; теперь весь этот мир был занавешен белой пеленой.
– Да, – сказала Яна.
– Будешь ещё чай?
– Можно.
Лиза, взяв у Яны одноразовый пластиковый стаканчик, стала открывать термос.
– Всё-таки, что за университет такой! Нигде не сядешь, занято всё вплоть до каждой ступеньки на лестнице! Что, по их мнению, мы должны делать на большом перерыве? Поесть – не поешь, столовая переполнена, бутерброд из буфета, в который выстраивается бесконечная очередь, съешь и то стоя, или сидя на узкой батарее. И они требуют, чтобы мы учились. Нет уж, вы ремонт сперва сделайте и диван поставьте, а потом уже и о придаточных предложениях поговорим…
– Ты, получается, отказываешь в праве на существование той романтике, которую во всём этом видят некоторые наши однокурсницы? – с неподдельным интересом в голосе спросила Яна. Человек, не знавший её хорошо, непременно подумал бы, что вопрос этот лишен и капли иронии. Лиза же только привычно заулыбалась.
– В Италию их отправить, или в Лас-Вегас, всё тут же пройдет. Тонкая душевная организация! Весь Достоевский в Италии вылечится.
Яна смеялась заранее, каждый раз задавая подобные вопросы и никогда не начиная спорить; спорить, слушая Лизу, стал бы лишь человек, желающий во что бы то ни стало выиграть некий конкурс зануд. И всё-таки Яна, ещё смеясь, произнесла:
– Вылечился бы, да не у всех…
Лиза, лишь сильнее оживляясь, заговорила:
– Тут ты права!.. Женя или Ксюша с нашего семинара, например… Ах, знаешь, что сказал мне Холмиков! – Лиза вся засветилась, как ребёнок, нашедший особенно весёлую игрушку. – Мы были с ним в кабинете, он запер дверь, мы разговаривали, курили, и случайно упомянули Ксюшу… И тут он сказал! «Вы знаете, Лиза, а Ксюша – она попросту дура»!
От изумления Яна даже застыла на секунду со стаканчиком чая в руке, поднесённым ко рту. Лиза стояла напротив и, казалось, готова была захлопать в ладоши, ожидая только соответствующей реакции Яны, чтобы начать.
– Так и сказал?.. – переспросила Яна, чувствуя, как губы уже расплываются в улыбке, и затем волна смеха накрыла их обеих. Смех не поддавался контролю, он противостоял всем законам логики, любым рассуждениям, приличиям; это был инстинкт – и то, что зачастую испытывало девяносто процентов учащихся на филфаке – странное смущение, будто бы перманентную неловкость, уклончивую неуверенность, выражающуюся в неопределённости реакции или мнения о чем-либо – было в равной степени чуждо и Яне, и Лизе. Обе с готовностью согласились бы, как ужасающе некрасиво со стороны преподавателя Университета, литературоведа, филолога и доктора наук Андрея Алексеевича Холмикова давать подобную оценку одной из своих студенток. Однако смех пробирал обеих мурашками и подрагивал на губах, и был прерван лишь последовавшим вопросом Яны:
– Вы обсуждали нас? Он говорил что-нибудь обо мне?
– Обсуждали, конечно, он же любит сплетничать. Он спросил, что ты знаешь о нас с ним… Я удивилась: отчего этот вопрос? Но он сказал, что «прочёл всё в твоём взгляде», потому что в отличие от нас с ним ты «очень чистый человек и не умеешь скрывать…»
Яна смолкла и затихла в одно мгновение. Мрачная тень легла на её лицо, и со стороны случайному наблюдателю она могла показаться бы застывшей маленькой ледяной фигуркой. От Лизиного же взора подобные перемены в настроении и поведении Яны чудесным каким-то образом ускользали, скрывались.
Яна молчала, опустив глаза. Ей столькое хотелось бы высказать в тот момент, столькое даже прокричать – Лизе, ему, Холмикову, и каждому, каждому, кто когда-либо знал её или думал, что знал, каждому, кто встречал её в университете в течение дня – но она лишь молчала, опустив глаза; кричать было бессмысленно, доказывать было бессмысленно, сказанное Холмиковым навсегда осталось уже сказанным, и обратно оно не вернулось бы, восприятие Лизой этого сказанного ни от одного Яниного слова не изменилось бы. Лиза бы выслушала её, притихнув, поглядывая с недоверием, пожала бы вслед последнему её слову плечами и предположила бы, что та преувеличивает. Яна опустила глаза – прошло несколько секунд – всё проносилось в её сознании вихрями, смерчами, всё кружилось и останавливалось у одной единственной фразы, как у невидимой стены: если нужно объяснять – то ненужно… И когда Яна вновь подняла взгляд, она сказала только:
– Он плохо меня знает.
Лиза, будто девочка из мультфильма, просмотренного уже тысячу раз, действительно в ответ лишь пожала плечами.
Яна подумала, сколько в ней грязи. В ней самой – не в Лизе, но в ней. В ней, которая никогда не совершала и сотой доли того, что с легкостью успела бы совершить – и совершала – Лиза за пару месяцев своей жизни; сколько в ней грязи мысли – и пусть двумя разными путями шли её дела и помыслы – но Яна знала: несовершённое даже страшнее, даже греховнее – если вспомнить вдруг о религии; жизнь Яны была водой, глубокой фантазией; и в этой фантазии, в постоянной мечте, как во сне, как в гипнозе было всё. Она проживала это всей душой и всей сущностью, и едва ли что-то из мира материального, что-то действительно совершённое кем-либо могло бы до глубины души поразить её, испугать, смутить. Мыслью она опережала собственную жизнь, опережала слова и поступки других людей; сколько она скрывала в тот самый миг, когда Лиза стояла перед ней, освещенная снежной пеленой за окнами, с такой лёгкостью и искренностью рассказывающая о том, что приключилось с ней. Сколько скрывала Яна в тот самый миг – о скольком молчала? И несмотря на это, слова Холмикова проникли в самую глубину её сердца тонкой острой иголкой, напоминая о ненавистном образе самой себя в глазах других, и остались там; вытащить её было невозможно; но Яна знала – сколько уже таких иголок хранит её сердце? И на каждую находилось место, и все они постепенно проникали всё глубже и глубже, покрываясь снаружи новой тканью, плотью.
– Я ездила к Лёше, – вдруг донеслось до Яны. – Он завёл ворону. Больную, грязную ворону. Понимаешь? Подобрал у подъезда, говорит, крыло сломано, лететь не может, замёрзнет она. Принёс её домой и в клетку, где раньше хомяк жил, посадил. И знаешь, что? У него нет денег везти её к ветеринару.
Лиза вся изменилась, заговорив об этом; её глаза вспыхивали – и было странно, что они, такие прохладно-голубые, небесные, могут гореть таким огнём злобы и отчаяния.
– У него нет денег, и он стал просить их у меня. Денег на ворону, Яна! Да и чёрт бы с ней, пусть делает он, что душе угодно, да и мне её, может быть, жалко – но ему двадцать два года, Яна!
– Но хуже всего, – вдруг заговорила тише и торопливее Лиза, – хуже всего, что он меня взглядом насквозь всю, он улавливает, как сверхчувствительный прибор, малейшие признаки моей лжи… За два дня до того я была у Холмикова. Дόма у Холмикова, – Лизин голос вновь стал взволнованным, возбужденным. – Он живёт в области, представляешь? В поселке Воробьи! Ехать на электричке сорок минут, но он, конечно же, ездит только на экспрессе. У него очень красиво, большая кухня, современный ремонт. И всё, что было – это как фильм, как самая пошлая, наскучившая каждому история, как дешёвая мелодрама. Клянусь, в какой-то момент я почувствовала себя персонажем. Вокруг бутафорный мир – ваза с фруктами, большой стол, бутылка прекрасного вина, запеченное мясо, овощи, в комнате играет джаз – всё будто прописано кем-то заранее, подготовлено столь тщательно и безукоризненно, что даже… Слишком. Я это в какой-то момент поняла – ему уже тридцать, и это ощущалось в каждом движении, в том, как он смотрит на меня, когда я пробую мясо, в том, как помогает снять шубу, аккуратно придерживая её, в том, как каждой мелочи отведено своё определённое время, в том, как он направляет ход этой беседы – такой светской, Яна, ну точно как из книги – направляет её ход, неторопливо, размеренно, растягивая удовольствие, рассуждает о выставках и поэтах, о кино и о музыке, критикует наш климат и состояние этого корпуса, прерывает рассуждения смехом и шутками там, где они наиболее уместны. И в постели… Называл меня богиней. Он слишком тридцатилетний, Яна, одним словом, и по-другому не назовёшь.
– Он жук, – произнесла вдруг Яна. – Жук, как есть.
– Жук?
– Всё, что ты описала, это жук. Летает вокруг тебя, жужжит со всех сторон, хитрый, обходительный, читает тебе стих, одновременно набирая пинкод от карты. Это жук.
– Да, похоже… – Лиза подумала ещё секунду. – Действительно, жук! – она вновь обрадовалась, как радуются дети, когда то описание, которое удалось найти Яне, вдруг очень понравилось ей и показалось замечательным.
– Но жук-то он жук… Только после я оказалась у Лёши, а там больная ворона, на которую он просит денег. И куча вещей в углу комнаты. И дорожный знак на стене. И Гусь, который храпел на диване, открыв рот так, что ворона, если бы вылетела из клетки, села бы туда, как в гнездо.
– Взглянув на всё это уже в тысячный раз, я решила: достаточно, я хотела уйти в тот же вечер, уйти навсегда, совсем его больше не видеть, вычеркнуть из жизни вместе со всем его Ховринским районом и со всеми воронами… А он укрыл меня пледом и стал рассказывать дурацкую историю, как в детстве упал в ящик с помидорами.
Яна слушала, печально улыбаясь; она понимала всё, что требовало, по мысли Лизы, долгих эмоциональных объяснений, сравнений и описаний, ещё до того, как та вообще начинала говорить. Яна слушала молча и сопереживала в душе, и жалея, и понимая Лизу, и желая объяснить ей всё то, что для неё самой будто с рождения казалось очевидным и простым.
– Нет, я знаю, что нужно выбрать, – продолжала Лиза, речь которой можно было бы выключить на несколько минут, будто рекламу в телевизоре, а заем включить вновь и обнаружить, что ничего не упустил. – Но как мне выбрать? Деньги или ворона, поэзия или Гусь, вино из Италии или пиво зажигалкой? Как выбрать, Яна? Я знаю, насколько это смешно и грустно, насколько тривиально – но мне не легче. Ну разве я не достойна, если и не всего лучшего, то хотя бы вина к ужину, это такая малость! Но он укрывает меня пледом, и… А там – там столько слов, там столько лирики… Там можно заказывать десять блюд из меню, можно сказать: «Чехов», и тебя поймут…
Яна по-прежнему сидела на узкой батарее, и это стало уже причинять ей боль, но она всё не вставала. В какую-то секунду Яна действительно словно выключила у рекламы звук – казалось, будто ушла в себя, растворилась в мыслях. Но мыслей не было. Лишь странное неожиданное бессилие – мерк свет и бледнели цвета окружающего мира; ощущение суеты сует, легкомысленной глупости, безвыходной беспокойной активности, не затихающей никогда и непрестанно что-либо ищущей, почувствовалось Яной одновременно во всём, что составляло смысл и суть Лизиной жизни, – и это было отчего-то неприятно и грустно.
– Мне требовался совет от кого-то, кто опытнее и старше, кто не желает мне зла… Когда я рассказала всё маме, она только усмехнулась, будто бы тут и говорить не о чем, будто бы Лёши и вовсе не существует, и, погладив меня по голове, спросила, сколько мне лет. Я ответила, что девятнадцать. Тогда она взглянула на меня вновь всё так же, с искренним непониманием, с такой, знаешь, даже жалостью, и сказала: «Девушка в девятнадцать лет должна использовать все возможности, чтобы насладиться жизнью. Красота, Лиза, красота и радость – вот, что тебе действительно необходимо, но где ещё ты сейчас обретёшь это? Посмотри, как мы живём. Не бедно, не хуже, чем все – но разве так ты хотела бы провести всю жизнь? Среди обоев в цветочек и грязной посуды в раковине, среди скидок на макароны и выживания от одной Турции до другой?» Я ушла в комнату и плакала целый час. А после позвонила Холмикову.
Внимание Яны вновь переключилось на Лизу и то, что она говорила; вновь волна жалости захлестнула её, вновь показались невыносимыми все условия их земного существования, воплощавшиеся в выцветшем деревянном паркете под ногами, в пыли на батарее, по которой Яна провела случайно рукой и заметила, как пальцы покрылись серым, в том что описывала Лиза. Что ждет её, эту девочку, далее – в жизни? Что хорошего увидит она, будет ли этот мир чем-то радовать её – её, не плохую, не хуже и не лучше, чем прочие люди, её, веселую и доброжелательную, начитанную и интересную – такую обычную, такую особенную, что её ждет, кода два года, оставшиеся им, пронесутся в один миг? И почему, почему должна она быть способной на этот подвиг, почему должна не быть как большинство женщин? Почему то, как относится к жизни Яна, должно быть естественным и для неё? Не должно и не может, и хорошо, что так; и как бы хотелось, чтобы она обрела счастье.
– Я стала рассказывать о себе; рассказала всё – я говорила, что чувствую себя последней сволочью на Земле и в то же время некая часть меня возмущается; я вспоминала, сколько значила для меня та зима и та встреча, прекратившая бесконечный безумный круговорот. И меня – несмотря ни на что, не держа в уме и невообразимое число тех, кто был со мной раньше, – меня полюбили, Яна, просто так полюбили… А мне оказалось этого мало.
Лиза смолкла на секунду, опустив глаза.
– Покурим?
– Да, пойдём, – ответила Яна.
Она поднялась, чувствуя усталую тяжесть во всём теле; хотелось лишь лечь и, закрыв глаза, пролежать в тишине несколько дней. Но они спустились по широкой винтовой лестнице вниз, в самую сердцевину шума, в самое бурление толпы. «Ассаламу алейкум!» – доносилось до них то и дело из середины большого перерыва; то были многочисленные юристы. Разноцветные заколки-бабочки и резинки с блестящими цветками мелькали перед глазами яркими пятнами – то были будущие преподавательницы всевозможных языков и литератур; протиснувшись к выходу из корпуса, минуя двойной стеклянный вестибюль, девушки оказались, наконец, на улице, на ходу набрасывая на плечи пальто, которые сдавались ими в гардероб лишь изредка.
Крыльцо утопало в белых облаках, будто в тумане. Густой пар от вейпа и прозрачный дымок сигарет смешивались друг с другом так, что и самую табличку, запрещающую курение на территории Университета, было почти не видно.
Снегопад усиливался. Белый пар на крыльце соединялся с белым фоном за его пределами, и лишь темные силуэты студентов, зеленоватая плитка под ногами и низкая широкая крыша над крыльцом выплывали серыми пятнами из белизны и позволяли ориентироваться.
Закурив, Лиза вновь начала говорить. Светло-карие глаза Яны смотрели сквозь неё, взгляд растворялся в дыму и отказывался фокусироваться. Но этого Лизе и не было нужно; рядом стоял живой челок, обладающий ушами, и этого хватало.
– Он выслушал меня очень спокойно и внимательно, кивая головой и убеждая, как хорошо понимает каждое слово. Сначала я и внимания не обратила – жук, как ты и сказала. Непременно проявит заботу и внимание, станет слушать любую жалобу с обеспокоенным выражением лица; я это знала и всё равно хотела, чтобы он выслушал, чтобы что-то сказал. Но когда он заговорил, Яна, когда заговорил… Он весь изменился как будто, и лицо стало другим, и… Тогда ещё я не называла его жуком, но именно это чувствовала в глубине души. А когда он заговорил… В те полчаса жук исчез без следа, он, конечно, вернулся почти мгновенно, но в те минуты его не было, совсем не было. Была только правда. А правда в том, что ещё совсем молодым, в первые годы после того, как он переехал в Москву из Хабаровска, поступив в Университет, он попал в зависимость от… То есть, он находил их в интернете, договаривался, приезжал… Или они к нему приезжали. И он не мог остановиться. Нет, нет, послушай, не говори ничего. Его так увлекла Москва, вообще жизнь, сотни новых людей, занятий и дел, что в какой-то момент он потерял контроль над тем, что происходило, его несло и несло. Он чувствовал, что попал в зависимость, что нездоров, что не может смотреть на себя в зеркало по утрам – но всё продолжал и продолжал. Так длилось год, и после первого курса он чудом не вылетел – спасло лишь то, что он был мальчиком. Ну, ты понимаешь… На следующих курсах всё относительно успокоилось… А затем он нашел жену – познакомился в интернете. Да, ещё два года назад он был женат. Да, познакомился в интернете, это не шутка. И вот тогда безумие окончательно уже остановилось, закончилось, и теперь мы имеем Холмикова такого, какой он есть – преподавателя, доктора наук. Не столь важно, отчего они разошлись – он утверждает, что слишком много работал, – если это правда, то я посадила бы эту сумасшедшую женщину к Лёше на диван и посмотрела, как им живется. Таким я ещё не видела его, Яна. Мне впервые показалось, что это не развлечение, не игра для него… Он взял меня за руку и сказал, что в любой ситуации, какой бы я выбор ни сделала, как бы ни поступила, я могу рассчитывать на его помощь, всегда. Что он, как человек, который старше меня на десять лет, хотя и не вправе, но советует мне тщательно всё обдумать, прислушавшись к себе… – Лиза закурила вторую сигарету. – И эта встреча, – вновь заговорила она, – эта встреча всё спутала лишь сильнее. Я надеялась сделать выбор, надеялась, что решение станет для меня очевидным, до смешного простым. А теперь я чувствую только страх, потому что мне кажется, я на веревочке посреди пустоты, я не могу сделать ни шагу, я упаду. Я не хочу ошибаться, не хочу быть несчастной, я боюсь выбора, безумно боюсь выбора…
Яна молчала. Как поделиться собственным – врождённым – умением слушать и слышать сердце?.. Чувствовать что-то внутри, направляющее жизнь по определенному курсу и помогающее никогда не сбиваться с него?.. Яна смотрела на Лизу с невыразимой печалью, сознавая, что способа нет. Одновременно с этим она испытывала совсем уже странное чувство – будто бы стыд; необъяснимый иррациональный стыд за собственную мудрость, неизвестно откуда берущуюся и едва ли подходящую девушке в её возрасте. Без ложной скромности Яна знала, что эта мудрость действительно есть, и почему-то стыдилась её в те моменты, когда Лиза подробно и долго рассказывала о том, что занимало все её мысли и по-настоящему беспокоило. Эта милая глупость, эта легкость и некоторая поверхностность, это искреннее желание собственную жизнь сделать настолько благополучной, насколько возможно – вот, чем обладать бы Яне, вот, какой ей бы быть – но она никогда не будет. Вместо этого она лишь понимала каждого, кого знала, наблюдая мир их глазами, даже когда не желала того, но ничем не могла помочь. Она становилась Лизой. Она чувствовала: душой и сердцем её тянуло к грязным хиппи, к маленьким захламленным квартиркам, которые словно расширялись её безграничным счастьем. Но в то же время она слышала чей-то голос: «Нужно выбираться отсюда. Нужно сделать что-то для лучшей жизни, для всех тех благ, которые имеются, – а ты ведь знаешь, что они имеются, ты видела, и сама от себя этого не скроешь». Голос настойчиво шептал: «Ты погибнешь здесь, задохнешься без красоты, в пыли этих стен и в грязи серых кварталов. Но вспомни себя получше, вспомни, скажи честно: разве это не ты считала, разве это не твои собственные были мысли, что всё в этом мире – тебе: красота, радость, лёгкость. Разве не ты считаешь, что поэзия замечательно уживается с деньгами? Разве хватит тебя на вечную романтику старых кухонь? Разве не ты – блеск, утонченность, грязь, возвышенность, и почему не тебе – всё шампанское и все платья мира? Разве ты не заслуживаешь их? Неужели другие, эти девочки во всём мире, эти глупенькие милашки с наращенными ресницами и неумением расставить запятые в предложении – разве они заслуживают этого больше? Разве ты меньше?.. Беги, беги, уходи из этих спален, подъездов, маршруток, ищи, ищи возможности проникнуть туда, – будто в чудесную страну, – где сияние витрин сливается с огнём заката, где шипение моря шипит в сверкающих бокалах, где «читали ли вы Мюссе? Это автор…» едва отличимо на слух от «нам счет и клубничный мусс, и оплата картой».
Лиза докурила, и девушки вернулись в корпус. Большой перерыв затихал, и коридор первого этажа постепенно пустел, как берег во время отлива. У самого гардероба, к которому Лиза подошла на минуту, прямо перед ней с потолка обвалился большой, неправильной формы кусок штукатурки, едва не задев её.
Яна подошла к Лизе, смотревшей неподвижно на обломки, и, не успев засмеяться, замерла – по щекам у Лизы текли слёзы, оставляя бледные, чёрные полосочки туши, её губы дрожали, и она стояла молча, не сводя взгляда с пола.
– Что ты… – начала Яна, но оборвалась на полуслове.
Лиза, простояв так ещё с полминуты, затем быстро и решительно вытерла слёзы рукавом серой толстовки и, со злобой и ненавистью неподдельной, способной, казалось, ни больше ни меньше что-нибудь сжечь, бросила короткое матерное ругательство и зашагала прочь, к лифтам и лестницам, пронизывающим Старый гуманитарный корпус системой сосудов, регулярно переносящих сотни маленьких человечков по всей площади большого уродливого серого тела, поддерживая, таким образом, его жизнь.
Яна, помедлив секунду, пошла за Лизой, и обе влились в этот поток».