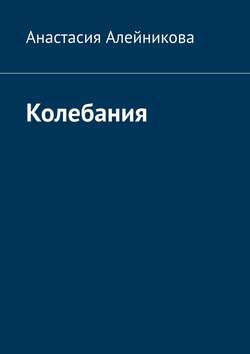Читать книгу Колебания - Анастасия Романовна Алейникова - Страница 8
Часть первая
Глава 2
4
ОглавлениеТемная, долгая зимняя ночь усыпила полмира, и бодрствовал лишь город, который не спал никогда. Москва пребывала в движении, сверху похожая на золотую звезду, сосредоточившую в центре всю мощь своего света и расползающаяся менее яркими лучиками в черноту вокруг.
Окраины Москвы погрузились в дрему, как и положено спальным районам.
Один человек не спал.
Маленький желтый огонек горел в огромном доме, теряющемся в снежной темноте. Одно окошко чьей-то комнатки светилось. За плотно закрытыми шторами кто-то не мог уснуть.
Черные кудрявые волосы спадали на лоб, мешали читать. То и дело однообразным, машинальным движением она заправляла их за ухо, но они спадали вновь. Черные брови были сосредоточенно, напряженно сдвинуты, на лбу залегла маленькая, тонкая морщинка. Удивительно нежное и открытое лицо, обыкновенно бледное и несколько прозрачное, теперь, освещаясь желтоватым теплым светом лампы, казалось удивительно живым, здоровым, словно освещено было южным солнцем, и даже щеки как будто тронул легкий румянец.
Кто-то мог бы заметить это, окажись он случайно в той комнате, и, заметив, остановиться, замереть, не поверить даже, – но никого больше не было в той комнате, кроме одного человека, и комната была совсем одинокой, тихой, пустой. Чьи-то фотографии висели на стенах, книги стояли на полках узкого стеллажа. И сидела на разобранной постели, укрыв ноги мягким одеялом, точно что облаком нежно-розового цвета, девочка.
Девушка двадцати лет.
И её лицо было удивительно прекрасно в тот момент, хотя никто и не видел. И лицо было таким, каким описывают его на долгих страницах классических романов. И ресницы чернее ночи, густые и длинные, создавали тень на румянце щек, и губы, то и дело закусываемые, казались особенно алыми.
В одной руке девушка держала толстую распечатку, положив её на укрытые одеялом и сложенные по-турецки ноги. Вокруг на постели расположились, точно в ритуальном круге, и остальные спутники ночи бессонной и полной волнения: книга, толстая тетрадь, несколько белых листов, две ручки, один маркер, корректор и телефон.
Так выглядел человек снаружи, такой казалась его внешняя оболочка.
Но не то было внутри, не то было глубоко в самом этом человеке.
И то, что скрывалось там, если бы необъяснимым образом вырвалось вдруг наружу, если бы предстало в свете всё той же желтоватой небольшой лампы, наверняка в секунду сумело бы погасить её, затмить навсегда непроглядной тьмой.
Молоточками, маленькими колкими ударами всю её сущность истязало и мучило одно – неконтролируемое волнение, переходившее иногда даже в отчаяние, в ужас, и тогда слезы наворачивались у неё на глазах, и прекрасные длинные ресницы готовы были ещё потяжелеть и слипнуться, намокнув. Волнение подменило её. Оно стало единственным ощущением, оно не оставляло места более ни для чего. Оно, казалось, полностью вытеснило то, что ещё вчера называлось Ксенией, что умело и смеяться, и мечтать о чем-то.
Где-то далеко, за пределами комнаты, за маленьким окошком так же изнывал ветер, не успокаиваясь много часов.
Время шло, тянулось бесконечно, проносилось в секунду, не оставляло Ксении шанса и давало их целые сотни, – но казалось, что выхода нет и он не может быть найден.
Часы показывали два.
С каждым мгновением неминуемо приближалось утро – утро страшного, в чем-то судьбоносного даже дня, но сколько ни пробовала Ксения как бы обезопасить себя, сколько часов она уже ни потратила на это – падение и поражение казались неминуемыми.
Ничего не удавалось сделать с собой. Никакой системы и логики не находилось – и не могло их быть там, где была одна только бесконечная любовь. Эта любовь отказывалась делиться на пункты, подпункты, главы, теорию, практику, она только вспыхивала, озаряя черное волнение, всякий раз, когда Ксения вновь притрагивалась к толстой книге. Бледно-серая, потертая, она имела такой вид, какой имеют все книги, прожившие на свете не один десяток лет, повидавшие кое-что на своем веку, успевшие почувствовать на себе тепло сотен самых различных рук. Шероховатая обложка и страницы – ещё не желтые, но уже и не белоснежные безупречно. На некоторых из них был заметен разнообразный узор – кружочки и другие фигуры всевозможных размеров и форм, темные и маслянистые, жирно-прозрачные, маленькие и большие, похожие на отпечатки чьих-то пальцев и на брызги. Тоненькая серебристая надпись вверху книги ещё поблескивала, ещё не потускнела полностью – «Сборник фронтовой лирики».
Между тем надпись иная, крупно напечатанная на белом листе, который Ксения держала в руке, была не что иное, как «План курсовой работы».
Однако более на том листе ничего и не было. В столбик спускались к низу страницы ещё маленькие цифры и длинные горизонтальные линии – но пространство вокруг них оставалось пустым.
День неминуемо, неумолимо приближался.
Не было ни на листе, ни в голове ещё ни одного слова, которое можно в три часа следующего дня было бы произнести спокойно и уверенно. Только сомнения, смутные догадки, предположения, вопросы.
Ещё была любовь. И Ксения открыла книгу посередине и стала читать, надеясь, что жуткое видение рассеется, побледнеет в свете её любви, – видение небольшой аудитории на девятом этаже, удобного черного кресла и в нем – расслабленно сидящего Холмикова, спокойно и мягко улыбающегося в тот миг, когда взгляд его переносится с одного какого-нибудь студента на неё – на Ксению, спрашивая, интересуясь, требуя, как бы учтиво приглашая её заговорить. Рассказать о плане той курсовой работы, которую в течение всего оставшегося года она будет писать.
Стихи на фронте. В огненной реке
Не я писал их – мной они писались.
Выстреливалась запись в дневнике
Про грязь и кровь, про боль и про усталость.
Нет, дневников не вёл я на войне.
Не до писаний на войне солдату.
Но кто-то сочинял стихи во мне
Про каждый бой, про каждую утрату.
И в мирной жизни только боль могла
Во мне всё том же стать стихов истоком.
Чего же больше?
Тягостная мгла.
И сатана во времени жестоком.
<…>
Нет, видение не могло рассеяться. Никакая любовь не стирала его, а страх только усиливался. Всё было впервые – и работа с научным руководителем, и составление плана, и отбор материала, и странным казалось то, как оборвавшееся давным-давно детство шевельнется вдруг где-то в душе в самый неожиданный момент, – испугается того, чего взрослые не боятся, заплачет над трудной статьей, смутится двусмысленного вопроса. Ксения не знала и не задумывалась, чувствуют ли все её однокурсники так же, или только она одна. Приближалась середина второго её учебного года в Университете, и именно теперь закладывался фундамент для будущего, в каком-то смысле это было началом конца, очень важным началом. С первой курсовой работы и до последнего весеннего семестра на четвертом курсе, когда в спешке дописывается диплом, пролетит секунда. Всё это было важно, бесконечно важно и взаимосвязано, и необходимо было правильно, точно начать.
Но противоречивые, сложные, спутанные мысли не давали даже четкой формулировки для темы, и впервые Ксения усомнилась в верности собственной теории. Теория эта была простой и прежде казалась непреложной истиной – заниматься следует тем, что по-настоящему любишь, и особенно – если учишься на филфаке. Для того он дает ведь и все возможности. Дипломы защищались по комиксам и текстам песен группы Pink Floyd, по русским народным сказкам и фармацевтической лексике английского языка. Но вдруг Ксюша почувствовала – её любовь никуда не умещается, и не способствует вдумчивому анализу, а только мешает ему, – а он, в свою очередь, если всё-таки удается, будто бы портит эту любовь, уменьшает её. И Ксюша стала вдруг понимать тех, чьи исследования и истинные увлечения находились бесконечно далеко друг от друга. И всё это – в ночь, которая требовала уже не рефлексии, не поисков истины, а только точной работы, сосредоточенной, вдумчивой планировки того, что обдумывать следовало в прошедшие месяцы осени.
И Ксения вновь открыла книгу, чувствуя, как тупое отчаяние заполняет её душу.
Девятый класс окончен лишь вчера.
Окончу ли когда-нибудь десятый?
Каникулы – счастливая пора!
И вдруг – траншея, карабин, гранаты…
И над рекой дотла сгоревший дом,
сосед по парте навсегда утерян.
Я путаюсь беспомощно во всем,
что невозможно школьной меркой мерить.
До самой смерти буду вспоминать:
лежали блики на изломах мела,
как новенькая школьная тетрадь,
над полем боя небо голубело.
Окоп мой под цветущей бузиной,
стрижей пискливых пролетела стайка,
и облако сверкало белизной
совсем, как без чернил «невыливайка»…
Но пальцем с фиолетовым пятном,
следом диктантов и работ контрольных,
нажав крючок, подумал я о том,
что начинаю счет уже не школьный…
Слезы подступили близко-близко и сдержались с трудом. Что-то теплое разливалось внутри, как будто отчаяние соединилось всё с той же острой, странной любовью. При этом далеком, смутном чувстве, что любовь – странная, а, соответственно, подсказывал чуткий внутренний голос, и она сама – Ксния – странная, Ксюша одну слезинку всё-таки не сдержала, только сама не понимала, отчего плачет. Ей казалось – нет плана работы, и нечего будет сказать, и Холмиков не одобрит это, и хаос воцарится повсюду, ведь и последний весенний семестр четвертого курса много ближе, чем она думает, а необходимого начала всё ещё нет, и зимняя сессия приближается, – и едва ли она понимала, что та слезинка скатилась по щеке по причине совершенно другой. Странная, странная – вот, что это была за причина, неясное чувство, не понятое до конца, оно замаскировалось под сотню других неприятных чувств и предчувствий. Но в самой своей сути оно было таким. Странная – вся её бесконечная любовь к военной лирике. Странное – желание писать именно о ней. Странная – эта книга, лежащая на постели и открытая Ксенией за всю жизнь уже бесчисленное количество раз. Странная – вся она. Неправильная, лишняя даже и на филфаке, где каждый странен по-своему. Странно и стыдно любить то, что любишь, странная и стыдная вся твоя душа, всё то, что составляет тебя настоящую.
Это вызвало слезы, но тут же спряталось и ускользнуло, так, чтобы Ксения не сумела ясно увидеть это, задуматься. Да и едва ли она бы смогла – её любви лет было почти столько же, сколько и ей самой, и вдруг, в одну секунду поставить всё под сомнение, открыто устыдиться перед собой за себя же – даже и с тем, чтобы потом это принять, и полюбить вдвое сильнее, – на это не хватило бы ни духа, ни сил. На такое требуются месяцы, годы. У Ксении была одна ночь.
И потому она только удивлялась скатившейся вдруг слезинке, расстроенная, волнующаяся, и невыразимо отчего-то страдала.
В книге, лежащей перед ней на постели, было всё. Это было и детство, и начальная школа, и каждое девятое мая там – актовый зал, и сцена, и родители, и учителя, которые все наперебой хвалили её, и ещё глаза стариков – все в лучиках, глубокие, такие бледные и прозрачные, полные слез, и небо было таким же; те дни – особенные, оставшиеся в детской памяти чем-то торжественным, ярким и радостным; всегда в те дни сияло солнце, и звучала музыка – удивительная, она не была похожа ни на какую другую. Мама говорила, это марши, это «песни тех лет». И шары летели в безоблачное небо, и полосатые ленточки украшали всё, всё вокруг. А потом, на черном майском небе, озаряя толпу, вспыхивали горящие всеми красками цветы, искры, звёзды.
Но особенно ярким было одно воспоминание. Они с папой стоят посреди людной улицы в самом центре города, и папа крепко сжимает её руку, чтобы толпа не разделила их. Девятое мая – этот сказочный день, который Ксюша ждала всегда – втайне от всех и даже чуть сильнее, чем Новый год, – наконец наступило. Они гуляют, гуляют с папой вдвоём, а потом снова они не увидятся – когда теперь мама разрешит ему вновь… И почему не разрешает? Они остановились посреди улицы, и вдруг Ксюша видит что-то – в другом её конце, мелькая между бесчисленными силуэтами людей, то показываясь, то исчезая, кто-то есть – и он как бы ниже, чем вся толпа. Ксюша приглядывается – за секунду в образовавшемся между людьми просвете она замечает – это какой-то мужчина, и он стоит на коленях. Ксюша сжимает папину руку крепче, а сама наклоняется то в одну сторону, то в другую, встает на носочки, всё пытаясь разглядеть то странное, что она заметила. Но это никак не удаётся. И наконец она спрашивает у папы, что же это такое там, почему там мужчина стоит на коленях. И папа, будто не понимая, о чем она говорит, предлагает подойти ближе. И они подходят. Тогда Ксюша видит – действительно, человек стоит на коленях посреди улицы, держась ближе к зданию, и это старик, такой старик, каких она не видела ещё никогда, ни в одном актовом зале, он будто уже и не человек – только прозрачный призрак, волосы сливаются с белой стеной, и он весь как-то теряется на её фоне, и только одна деталь выделяет его, будто обрисовывает в воздухе, – тяжелый, большой, тёмный пиджак, весь увешенный орденами. Ксения удивляется даже мельком – как эту тяжесть выдерживает почти исчезнувший уже призрак? А старик стоит на коленях и смотрит куда-то, и у него в глазах слёзы. Сотни орденов сверкают на солнце, даже ослепляют, если смотреть на них неподвижным взглядом. Едва Ксюша успевает пошевелить папину руку, что-то спросить у него, – как к человеку уже подбегают люди, обступают со всех сторон, помогают встать, и вновь заслоняют его от Ксюши, и она видит сквозь спины, что он встаёт не сразу, что кому-то кивает, и от чего-то как будто отказывается, и благодарит, а потом он уходит и теряется впереди в толпе.
Папа ничего не смог объяснить ей, а маме рассказывать не хотелось. И сколько ещё дней это воспоминание светилось перед глазами, стояло, всё в белом, на коленях посреди улицы, и только тёмный пиджак, будто висевший в воздухе, сиял золотом. И где теперь этот человек, этот мелькнувший призрак?
Там же, думала несколько позже Ксюша, он там же, где все те люди, фотографии которых мы клеили на генеалогическое древо, но никогда в жизни не видели. Там же, где те, о ком остались теперь только странные слова – прабабушка и прадедушка. От бабушки было ещё многое – свитера, варенье в банках, маленькие разноцветные книжки, засушенные осенние листы в детских альбомах; от бабушки было многое, и она была ещё человеком – а от них осталось лишь странное слово, начинающееся с «пра». И привычное «бабушка» превращалась в чуднόе «прабабушка». И жёлтая, вытертая, маленькая фотография наклеивалась на большой белый лист в середине, там, где у древа начинались ветви, а мама говорила, что «оба погибли на войне».
Время шло, и другие уже девочки выходили на сцену актового зала – но Ксюше всё казалось, они читают неправильно, они упускают что-то. Их звонкие девчачьи голоса, такие ещё детские, звучали и увереннее, и чище, чем её собственный – что в те годы, что теперь – но в них во всех будто слышна была звенящая фальшь. Долгими вечерами под чутким руководством мам и учительниц репетировали они свои выходы, тренировались в произнесенении каждой отдельной строчки. Так прежде делала и Ксюша – но, оглядываясь назад, она поняла вдруг, что, несмотря на дрожь во всём теле и потеющие ладони, стоило только ей выйти на сцену и начать читать – голос её менялся и все те заученные интонации, повышения и понижения тона отлетали, как шелуха, и оставалось только чувство – её собственное, настоящее. Было ли чувство у этих новеньких девочек в очаровательных черных юбочках, белых бантиках? Было ли там что-нибудь за их отрепетированными жестами маленькой ручкой, за драматичными паузами после риторических вопросов, столь часто встречающихся в стихах? Ксюша не знала, но невольно думала, что нет, не было ничего, что они воспроизводили стихи как исправный магнитофон, как соседский цветастый попугай, как иностранец, не понимающий значения тех слов, которым его обучили радостные местные жители.
Время шло, и детские девятые мая сменились волонтерством, сборами средств и подарков, и случилось даже так, что на долгие два года, на десятый и одиннадцатый класс, любовь к истории затмила собой Ксюшину любовь к литературе.
Но в синие весенние небеса она глядела по-прежнему, с непонятной нежностью и тоской, со щемящим сердцем, глядела теми же детскими глазами, высоко запрокинув голову, – и более всего восхищал её парад авиации. Рассказы и фильмы о космосе – исторические, художественные, фантастические и основанные на реальных событиях вызывали у неё те же чувства. Далекая мечта звала её – откуда-то и куда-то. Звала из старых советских фотографий улыбающегося Гагарина, звала из черно-белых фильмов, из кадров хроники, из фотоальбомов, книг, и звала – в небеса, к чему-то такому, чему, знала Ксюша, никогда не суждено сбыться, но к прекрасному, к тому, в чем были правда, сила и смысл.
Она пробовала даже, как и всякая студентка филологического факультета, писать – и каждый рассказ получался о лётчике, космонавте, ребёнке, мечтающем им стать, о солдате, о первооткрывателе, о бесконечном небе, о Родине. Язык этих рассказов, пожалуй, совсем ничем и не выделялся, ничем особенно не радовал – но Ксюша выражала в них всё, что её беспокоило, никому не давая читать.
А когда рассказы не помогали, она брала в руки книгу.
Ту, которую открыла ещё в первом классе, ту, на которую плеснулся из чашки чёрный кофе, оставив волнистые тёмные разводы, побледневшие со временем, ту книжку, которую читал ей папа в редкие, редкие вечера.
Она брала её, и книга говорила с ней, говорила о героях, о тех, для кого ни на секунду не встал вопрос – спасать ли страну, или себя, не встал по-настоящему, не заставил колебаться и мучиться нерешительностью. Ксюша знала – им лет было столько же, сколько и ей теперь, и они умирали. И также это знал всякий её ровесник – слышал за недолгую свою жизнь столько раз, что невольно хотел уже заткнуть уши. А Ксюша чувствовала это удивительно живым, будто сама была там, будто умирала с ними.
Она брала книгу, и книга говорила ей:
<…>
Пусть будет так. Пусть будет к ним добрей
Жестокое и трудное столетье.
И радость щедрых и прекрасных дней
Получат полной мерой наши дети.
И нашу память снова воскресит
В иной любви живительная сила,
И счастье им сверкнет у этих плит
Поярче, чем когда-то нам светило!
И это были будто её собственные чувства, это было что-то глубоко-глубоко в душе, что-то, от чего сердце привыкло замирать. И никогда никакая другая лирика так не трогала его, так не отзывалась.
И их, их, эти необъяснимые чувства следовало теперь выразить при помощи точной формулировки, а затем расписать по пунктам.
Часы показали три.
С тоской Ксюша подумала о том, что будет, когда часы покажут это в следующий раз.
Длинные густые ресницы поднимались всё тяжелее и неохотнее, и вот нижние совсем уже отказались отпускать их. Разорвав ритуальный круг, Ксюша переложила бумаги и книгу на стол, погасила свет и легла.
Черные кудрявые волосы рассыпались по подушке, резкая складочка между бровей вся разгладилась, и лицо, такое тревожное и серьезное, через минуту стало удивительно ясным и безмятежным, будто у ангела с детской открытки.