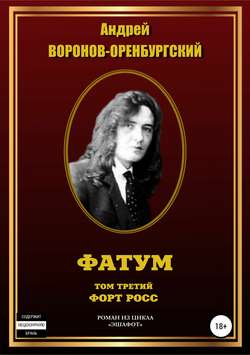Читать книгу Фатум. Том третий. Форт Росс - Андрей Леонардович Воронов-Оренбургский - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 2 Оборотень
Глава 10
Оглавление– Ну, иди! Иди же сюда!.. Я жду! – сизые вены вздулись на красной шее Митрофана.– Я знал, что судьба сведет нас и ты сам придешь ко мне. Только не суетись, капитан, а не то во лбу у тебя появится третий глаз.
– Тварь! – Андрей, затянув ремнем воли всю свою силу, бросился на убийцу. Выстрел оглушил его, точно удар молота по ушам. Небо, Джессика, Митрофан, скалы – всё заколебалось, как разбитое отражение в воде, в которую швырнули камень. Волны стали бурливей, задвигались скорее, и внезапно вся картина исчезла, будто ее всосало в темные глубины водоворота. Последнее, что вырвал его слух,– это пронзительный женский крик и такой знакомый, но запоздалый бой ружья Палыча.
* * *
Выстрел казака опрокинул Митрофана, разворотив плечо, выбив из руки нож. Он рычал от боли и ярости, его пальцы спазматически горстили песок, ноги продолжали скрести каблуками о землю, будто он старался оттолкнуться или отползти от смерти.
Аманда, теряя остатки самообладания, кинулась было к Андрею, но упала без сил, ощущая во рту омерзительный трупный привкус.
– Батюшка вы наш родной! Не оставьте! – Палыч, размазывая слезы и грязь по лицу, бухнулся на колени у разбросанного тела барина. Морщинистое лицо его смялось в жалкую тряпку, руки затряслись и с суетливой бережью, точно слепые, побежали по груди Андрюшеньки.
– Пресвятая Троица, помилуй нас… Господи, очисти грехи наши, Владыко Всевидящий, прости беззакония наши… Святый Боже, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради… – жалобно взохался старик, шепча молитву по Пресвятой Троице.– Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!.. – седая голова вестового упала на грудь любимого барина, и сутулая спина затряслась и задергалась от стариковского взрыда: – Пошто же?.. Пошто? Пуля-то чинов не почитат… Сокол вы мой, Андрей Сергеич!.. – безутешно качая головой, Палыч обнял плечи капитана.– Вот ить как, ангелонравный мой, вышло: пошли за шерстью, а вернулись сами стриженые… На кого же ты нас оставил, родимец, в сем чертоплясье… Наготьё да босотьё мы без тебя. Я же, батюшка, голубь вы мой, никогдась из вашей воли не выходил… Господи, Господи! Прости ты меня, Андрюшенька, грешного, что не прикрыл я тебя… Жить-то мне нонче к чему-у?..
Слезы изыскрили выцветшие глаза денщика, и он упал лицом на рваный пулей кафтан Преображенского, жмуря от скорби и горя глаза.
– Легче, легче,– хрипло осек его слабый голос капитана.– Так можно и душу разорвать, брат. А ну-к, привстань, душно мне…
Палыч, не веря своим ушам, оторвал сырую щеку от груди капитана… Топыря в радости пальцы, он, утирая треперстием слезы, истово осенил себя крестом.
– Святый Боже, ужли сторговал да вымолил твою жалость?
– Подарок отца Аристарха благодари,– морщась от боли, усмехнулся Андрей.– Кольчуга его спасла…
Преображенский, тяжело опираясь на локоть, свободной рукой рванул ворот кафтана, оголяя сверкающую плотными кольцами стали грудь. Чуть ниже сердца, вгрызаясь в кольчужное звено, точно жадный упырь, присосалась мятая пуля. Андрей ковырнул ее ногтем, подхватив на ладонь:
– А ведь это смерть моя была, Палыч.
– Она самая, батюшка… – денщик вновь перекрестился и припал губами к руке капитана.
– Ладно, спасибо Всевышнему и тебе, ангелу-хранителю моему,– Андрей крепко прижал голову старика к своему плечу, но через секунду уже беспокойно вопросил:
– Что Джессика? Митрофан?
– Тише, тише, вашескобродие,– Палыч бережно, но требовательно уложил капитана на теплый песок.– Обожди маненько. Наши вот-вот объявятся, нагрохотали мы тут хлопушками, страсть. Успокою: мамзель ваша жива, без чувств токмо, но то даже полезно для их породы… Без ентого оно даже как-то неприлично… Непорядок, значит.
– Тьфу ты, болтун! – плечи Андрея облегченно обмякли, лоб разгладился от морщин.– Твоим языком только сваи забивать. Митрофан где?
– А эт еще хто таков?
– Зубарев! – капитан лишь раздраженно отмахнулся, теряя терпение.
– А, Мотька-то зверь?.. – Палыч бросил полный лютой ненависти взгляд на труп каторжника и, багровея лицом, выдавил:
– Сбоярили спесь с людоеда… Убил я его. Ну и стервец… Ну и антихрист… Не дай, Иисусе Христе, радости дьяволу… Эт, значит, он на корабле православные души губил, оборотень?
Андрей устало прикрыл глаза:
– Он, Палыч, он… и в Охотске… все беды… тоже его рук дело. Ты вот что, друг сердешный,– Преображенский тепло тронул серебряный ус денщика.– Хватит со мной, как с писаной торбой, возиться, чай, не в юбке родился я. Спроворь лучше воды, а я покуда справлюсь и помогу мисс Стоун…
– Да куды вам, зашибленному? Я сам, барин, и туда, и сюда… Вы ж знаете…
Старик внезапно осекся, будто напоролся грудью на штык. В зелени глаз капитана, где только что отражались белые длинные перья облаков и он сам, Палыч вдруг различил фигуру, что сажевой тучей нависла над ним.
– Палыч! – предупредительный крик капитана оглушил старика, но в следующий момент чугунное кольцо пальцев сдавило его горло, рвануло с колен, точно он был не тяжелее ржаного снопа, и швырнуло в сторону, сажени на три.
– Ну что, мразь, думал обойти меня? – забрызганное кровавой слякотью лицо Митрофана, точно трещина от надбою на миске, рассекла дикая улыбка. В руке сверкнул нож – сердце Андрея оборвалось. Он неожиданно ощутил вкус крови, мгновением позже понимая, что прикусил мякоть щек. И когда пальцы Митрофана оттянули стальной ворот кольчуги и острие ножа задрало подбородок, ему показалось, что тьма, подобно манящему потоку, затягивает его рассудок: каторжник царапал его напряженное горло сверкающим кончиком ножа и пристально, точно хотел навеки впитать в себя этот миг, вглядывался в сырое от пота, бледное лицо капитана.
– На людях и смерть красна… а, мизгирь? – сталь кольнула сильнее. Андрей почувствовал, как горячая струйка скатилась и заизвивалась по шее, ныряя за ворот. «Господи, это моя… моя родная кровь… вот сейчас… сейчас… не покажи ему страха… только не выдай!.. Такое уже было в корчме…»
– Ну, что молчишь? Может, тебе сначала отрезать палец или ухо, чтоб ты раззявил язык?.. – холодное лезвие медленно оттянуло левое веко вниз, затем так же улитой поползло через нос к губам…
– Чего тебе надо, собака? – прохрипел Андрей, пытаясь унять мелкую сыпь дрожи.– Убей.
– Петух ты, а не орел, брат,– не слушая иного голоса, выдавил Митрофан.– А помнишь, как отец за руки в церковь водил нас? А опосля глаголил, дескать, ежели будете чисты в жизни, то сможете встать пред Богом… Да, говорил так… а сам бросил меня в каторжную фуру… А ведь я любил его, брат, отцом называл, а больше тятей кликал…
Андрей потрясенно смотрел, как по этому дубленому, в морщинах и шрамах лицу текли слезы, и секундами сам, теряя реальность происходящего, слышал лишь свой внутренний голос: «Однако, бывают… дела на свете, избави Бог… Кто б мог подумать… Господи, ужли всё это со мной…»
– Молись, молись, брат, нам, один черт, на роду было вырезано вместе в могилу шагнуть. Тебе всё равно не выжить здесь одному. А я, как вишь, жажду сдохнуть вместе с тобой. Зачем, скажи мне на милость, жить дальше? Что связывает меня с жизнью? Разве веревка иль плаха… Срок нам, брат, перед Богом ответить. И знай: я не прощу ему, ежли его нет.
– Есть, и ответ тебе… перед ним держать.
– А грех-то ваш с покойным родителем.– Сталь вновь, корябая кожу, поползла вверх.– Вот вам и отвечать за него.
– Нет, Митрофан, нет… – Андрей судорожно облизнул пересохшие, превратившиеся в наждак, с налипшим песком губы.– Тебе за всё твое зло содеянное отвечать пред Богом, только тебе. Им же – за свое ответ держать…
– Что значит «им»? – Весь клокоча бешенством, Митрофан с размаху воткнул свой кулак в лицо капитана, затем еще и еще, пока оно не распухло до неузнаваемости. Но он продолжал со звериной ожесточенностью колотить по нему, словно рубил дрова, превращая рот Андрея в сырой кусок мяса…
В какой-то миг он опустил свои руки, тяжело дыша, тщетно зажимая раны, из которых опять обильно засочилась кровь.
Бледнея лицом, он стиснул зубы и вновь ухватился за рябые от грязи и крови эполеты Андрея, точно боялся упустить своего заклятого врага, боясь упустить даже вздох из его груди.
– Ну! Ну же, отвечай, подпёсок! Что значит «им»?
– Окстись,– едва шевеля языком, пробормотал Андрей, уже не чувствуя боли.– Грех берешь, совесть поимей…
– Вот у тебя и займу ее ложку! – перехватываясь за грудки и подтягивая к себе жертву, прорычал Матвей.—Ненавижу я таких выползней, как ты, брат, а после Сахалы осиновый кол готов тебе в грудину вбить. Тебе не убить меня, паскуда, прежде чем ты не выплачешь кровью мать мою, невесту и каторгу. Я заговоренный. Понял?!
– Да, понял… Одно понял… Ты… – Андрей насилу разлепил глаза и долго глядел на мертвенно бледного Митрофана.– Ты чудовищно ошибся… Только выслушай меня… иначе…
– Ну же! – Лицо Митрофана склонилось ниже.
– Бог свидетель… Я долго терпел, но, видно, настал… и мой черед ответ держать,– капитан почувствовал, как Митрофан внутренне напрягся зверем при этих словах. Губы его стали прямее и жестче, в глазах мелькнула волчья тревога возможной западни.
– Ну же! – низкий голос дрогнул, на потных скулах вспыхнули алые пятна.
– Так знай,– глотая воздух, прохрипел Андрей,—жутко оступился ты в истине… Не брат я тебе… Уймись и слушай… Брат твой, Черкасов, давно в Петербурге… Я лишь фрегат принял под начало свое… идти в Калифорнию… А о боли твоей… он сказывал мне… В доме моем, на Купеческой, где бесчинствовал ты, стервец, и стрелял в меня. Было такое?
– Врешь! Врешь, мизгирь! – простреленный правдой услышанного, Митрофан затряс головой, пугая безумным взглядом. Руки его заходили ходуном, из горла вырвалась волчья выть.– Врешь! Вещба твоя треклятая, чтобы шкуру свою спасти!
Нож вновь приткнул острым холодом горло Андрея. Плита мускулов нависла над ним, изрытое морщинами ненавистное лицо дышало недоверием и злобой.
Андрей, задыхаясь от боли, чувствовал, как колотится его сердце, грозя пробить грудь. Инстинкт «беги или дерись» накачивал решимостью его кровь – разум кричал «бейся», плоть возражала – «не двигайся».
Митрофан сузил глаза в зловещие прорези. Громадная ладонь схватила Преображенского за стойку воротника, едва не задушив. Голос мести данных им клятв разрывал его на части.
В какой-то миг ужасные, полные крика и гнева картины каторги и смерти матери ослепили его, как вспышка молнии. Рваная судорога перекосила лицо. На глаза вдруг выступили неудержимые слезы ярости, почти ослепив его. Он не был в силах остановить скачущий пестрый кошмар, лопающийся в его голове.
Он вырезал в памяти растерзанную конвоем мать, исходящую кровью в забрызганной грязью дорог фуре… Вспомнил густой хохот фельдфебеля, довольно поправляющего свои большие и колючие, как проволочная щетка, усы, и его распаренных от водки и страсти солдат… Задранный подол крестьянской холщовой юбки матери, который оголял ее дрожащие раздвинутые бедра, и ее распухшие от слез и мучений стеклянные глаза. Они смотрели на него, но в них не было прежней жизни, не было в них и стыда или угрызений поруганной чести. В них, как в тусклом бутылочном стекле застыли лишь смерть и вечный безмолвный упрек закованному в железо сыну.
От этих метин в мозгу Митрофана вспенился и заклокотал какой-то магический котел. Месть с новой силой застучала барабаном в висках, на коих черными змеями вздулись вены. Отчетливо вспомнившийся звон кандалов показался ему скрежетом голодных челюстей, требующих новой крови, но животный, необъяснимый ужас перед словами капитана железными путами сковал его плоть; олютевшее сердце, превратившееся в камень, дало трещину.
Память скакнула рикошетом в прошлое, взвихряя студеную метель той сахалинской зимы…
Их бежало четверо – матерых, клейменых убийц. Овчина, Кайло, Федор-Поводырь и он, Ноздря, убивший в ночи прихваченной киркой двух часовых… Овчину загрызли волки, когда, подвернув на льду ручья ногу, он отстал от их стаи… Кайло в зыбучей пади сыскал могилу свою, а Федор все свои отмороженные легкие с кровищей выхаркал, прежде чем они добрались до Охотска. Сам он, в каторжном вретище съев свои сапоги, таки добрел до Охоты, где его подобрали, а затем с Геллем свели лихоимцы Мамона…
Внезапно Митрофан поднял глаза к небу, взгляд его накалился болезненной силой. Ему будто послышалось, что с ветром с реки долетел до него слабый шепот матери, коему вторил лепет Дарьи: «Не он… не он… не он…»
Митрофан на секунду ослабил свою хватку, в тревоге и беспокойстве склонив голову набок, точно прислушивался и пытался поймать обрывки неслышимых голосов.
– Поклянись матерью и Христом,– охлаждая свою лихорадку памяти, через молчание просипел он. Потусторонние голоса вновь, казалось, разговаривали с ним, тихо шепча свою правду сквозь шум реки и дыхание ветра.
– Клянусь,– багрово-фиолетовое лицо Андрея после того, как пальцы Митрофана ослабли, стало медленно принимать естественный цвет. Грудь его от удара пули горела огнем, в голове пульсировала боль, от которой хотелось кататься по траве и скулить, как раненая собака.
Сместившееся солнце, этот ненавистный жгучий глаз, выбивающий слезы, как нарочно слепил Андрея, но он, право, не замечал всего этого, пораженный жизненной стойкостью и звериной, решительно нечеловеческой природой сахалинца. Вся левая половина его обнаженного торса до парусиновых штанов жирно блестела от крови; две пули по меньшей мере сидели в нем, но он оставался всё тем же вепрем, который, казалось, не чувствовал ни обильной потери крови, ни боли, ни страха…
– Ну вот что… – растягивая слова, хищно поглядывая то на свою жертву, то на странную лиловую муть, затянувшую небо, разродился Митрофан.– Мне во… где твои сопли да байки, служивый. Гелль не той сучьей породы, чтоб на крови словом левшить. Я приполз с Сахалы за тобой, съев свои сапоги…
– Ну так рискни еще парой, чтобы вернуться и убедиться, что я прав. Ежли решил убить меня, не тяни, сволочь, но знай – это не ложь. Твой брат всё это сам рассказал мне!
– Нет! Не-е-ет! – дико взвыв, Митрофан закачался как блажной на паперти, неистово хлеща себя по лицу кулаком, в котором был зажат нож.
В следующий момент Андрей точно остекленел, узрев в узком его отраженье свое белое, как саван, лицо… Сталь запрокинулась над его головой, нацелившись выше кольчужных колец…
* * *
Красная слякоть забрызгала лицо капитана. Пуля пробила шею Митрофана и, выйдя спереди, раздрызгала в клочья кадык. Задыхаясь, Зубарев вцепился себе в горло левой рукой, правая в предсмертной агонии пробороздила по груди Преображенского, сдавив до хруста кости его запястья. Пальцы сахалинца были жесткие, как акулья кожа, и хватка их была под стать твердости.
Андрей отпнул сапогом навалившийся горой труп, тяжело поднялся. У дальних камней, где упала Джессика, американке помогал Тараканов, чуть поодаль, растирая шею, кряхтел Палыч, бордовые вдавлины ярко горели на шее старика.