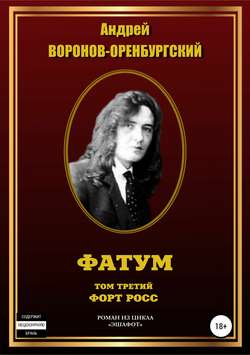Читать книгу Фатум. Том третий. Форт Росс - Андрей Леонардович Воронов-Оренбургский - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 3 Астория
Глава 6
ОглавлениеАндрей, подбросив веток в огонь, попытался уснуть, но это оказалось пустой затеей. Отбитая пулей грудь с новой силой напомнила о себе. Морщась от боли, капитан приподнялся на локте, любуясь спящей. Сколько раз он мечтал в каюте вот так однажды поутру проснуться рядом со своей прекрасной пассажиркой! Бальзамом на сердце была уверенность, что и она мечтала об этом.
«Господи, как она хороша!» – уставшие, но счастливые глаза Андрея светились любовью. Однако ныне ему было мало владеть лишь телом Джессики, он жаждал завоевать ее целиком, приоткрыв ее скрытную душу. И правда, то немногое, что ему удалось узнать об этой американке, казалось наивным, всё более напоминавшим малоубедительную легенду. Так больше продолжаться не может. Что ж, после раскрытия тайны Митрофана загадка мисс Стоун казалась ему вполне разрешимой.
Джессика что-то тихо пролепетала во сне и еще ближе придвинулась к Андрею. Золотистая рожь ее волос рассыпалась по нежным алеющим щекам, а сползший с плеча кафтан наполовину оголил упругие груди. От сего сонного, по-детски требовательного движения, бессознательного прикосновения ее маленькой руки, а более от вида восхитительной женской грации в душе Преображенского разлилось щемящее тепло.
Андрей замер, ощутив неуловимое разгорание желания, словно зов какого-то древнего голоса, и его опять охватило непреодолимое стремление вкусить сладость Джесси… Однако он сумел подавить это чувство, бережно укрыл спящую, натянул лосины, сапоги и в одной рубахе вышел из-под навеса.
Окончательно стряхивая остатки своего волшебного сна, капитан расправил затекшие плечи, тряхнул головой, огляделся окрест: могучая, как бездонный океан, природа медленно просыпалась; из тьмы под первыми робкими, как дрожание стыдливых ресниц, лучами рассвета начинали проступать ее спелые, яркие краски.
– Здравствуй, милый! – капитан, умывая лицо, шею и грудь хрустальной росой трав, кивнул бдящему Собо-леву.
– Доброго здоровьица, вашескобродие-с! – спешно вскакивая, козырнул боцман.– Беспорядков не наблюдалось. Прикажете побудку сыграть?
– Тише, тише, голубчик. Погодим немного.– Андрей Сергеевич отрицательно покачал головой, думая о мисс Стоун, сон которой лишь четверть часа как приоткрыл свою дверь.
– Погодим, так погодим, вашескобродие,– с обстоятельной серьезностью буркнул Соболев, мелко зевнул и с позволения капитана вновь присел у костра. В глазах Ляксандрыча Преображенский успел приметить «понимающий блеск» и конфузливо-озорную искру.
– Накинули б чой на себя, барин,– беспокойный сип проснувшегося денщика согрел душу офицера своей вечной заботой.– Хоть и редко вас хворь берет, батюшка, но тоже не век молодым прыгать будете… Нате-ка, голубь, накиньте кожан… Нагрел его, тепленький…
Палыч без согласия на то и без лишних уговоров набросил на плечи Андрея Сергеевича свой кожан и, радуясь отсутствию строгости по сему случаю, довольным подсел к костру.
Преображенский, кутаясь в кожан, вышел на берег; тихий и спокойный, дымный туманами реки, с первыми звонкими голосами птиц, он наполнял душу животворящей силой. Андрей перекрестился, прочитал молитву и присел на поваленное ветром дерево, глядя на могучую, шумную Колумбию. Казалось, в сем красивом, величественном мире нет, да и не может быть места для человеческих страданий.
Однако время было думать настоящим, спустившись с небес на бренную землю. Капитан неторопливо, со свойственной ему аккуратностью набил трубку, раскурил и, вглядываясь в проступающую на востоке монументальную цепь вулканических гор, в курящиеся купола над застывшей тысячелетия назад лавой, подумал, что вся эта дикая красота и величие, вся эта бесконечная страна дюн и скелетов деревьев, с причудливыми каскадами гор, созданных Господом, стала ему родной и близкой. И все эти каньоны, что им пришлось преодолевать, и роскошные ковры из цветов заливных лугов, и изумрудные сумерки, что сменяют палящий зной дня, все эти темно-желтые, красные, синие, зеленые тона гор, кои подобно белому кружеву украшают вечные ледники и облака, ныне не просто абстрактные виды. Нет! Он пролил за них свою кровь, а многие из его товарищей положили жизнь, и отныне на сей новорусской земле ему стал дорог каждый камень.
Он еще раз, точно пытаясь впитать в себя, внимательным, долгим взглядом посмотрел на белопенную беснующуюся реку, на огромные прибрежные валуны, что таили в себе застывшее в камне время, и выбил о ладонь истлевшую трубку.
«Святый правый, где я? Куда занесло меня?» – Андрей, засмотревшись на бегущую к океану изменчивую воду, оперся щекой о ладонь. Будучи полон светлых надежд, был ли он радостен?.. И да, и нет. Ощущая сброшенный груз пережитого, он чувствовал долгожданное облегчение, но пуще – безмерную усталость, коя родит в человеке безволие и точно могильная плита опускает руки.
Преображенский, не отрывая взгляд от светлеющей воды, растер ноющие ноги, плечи, неприятный озноб не то усталости, не то скрытого беспокойства холодной поземкой скользил по хребту.
Продолжая сидеть, временами поглядывая по сторонам, он неясно чувствовал: чего-то ему не хватает. Прислушиваясь к себе, то вновь озираясь, пытаясь что-то понять, уловить… он вдруг осознал, что в сей предрассветный час ему как воздуха, как воды недостает веры в себя, в свой путь… Веры и надежды на успех, что могли бы сейчас укрепить его дух и вернуть растраченные силы. И хотя за многие месяцы он, пожалуй, впервые дышал легко, покоя, света и тишины в груди его не случилось. Он не был провидцем, о многом не ведал и оттого мысли его, увы, не были радостны. Он не знал, что будет с Джессикой, с Палычем, с Тимофеем… с ним самим… Суждено ли им вопреки всему добраться до цели, останутся ли они в живых?.. Он толком не знал, долог ли путь до Астории. Смутно представлял и дорогу на Юг, где далеко в горах Калифорнии, на берегу океана, вконец отчаявшись, ждал послание графа Румянцева господин Кусков.
Не гадал он и о дворцовых интригах, что уж давно зрели при дворе Петербурга, где сеялись черные семена заговора, где шептались на ухо его величества злые наветы, где тайно раскладывались пасьянсы в пользу туманной Англии, супротив благой мысли и голоса старого русского канцлера.
Не знал он и содержание послания, за кое бились до последнего вздоха сыны России, обороняя родной фрегат, выполняя священный офицерский долг и данную раз присягу…
Отправляясь в далекий путь, не ведал он и того, что спустя месяцы у оскаленных берегов Америки суждено будет геройски погибнуть «Северному Орлу», а от него останутся лишь незримые семена, кои быстро схоронятся в сердцах тех, кого обошла смерть.
Нет, Преображенский не был ни прорицателем, ни провидцем, и хотя внутренний голос сомнений и сейчас не дарил его душе покоя, одно он знал твердо: ни до, ни по-сле, в час исполнения судеб его отряда, он не допустил роковой ошибки, не отступил ни на пядь, и выбор его был верен.
Непроизвольно ловя запахи утра, пропитанные крепким ароматом смолы и воды, капитан зачерпнул ладонью прибрежный песок. Едва согретый первыми лучами, чуть глубже он был прохладен. Пропуская его между раздвинутых пальцев, ощущая стремительный бег мельчайших крупинок, холодных и теплых, блестящих на солнце, уносимых порывом ветра, Андрей задумался, вспоминая строки Вольтера56:
«Я всё пытаюсь раз за разом философски смотреть на жизнь, на войну, как на одно из ее проявлений, но сие безумие… И оправдания сему нет. Мы разрушаем то, что защищаем… Это смерч, обрушивающийся на человече– ство».
«И что же, еще одна война? – Андрей сбросил с ладони остатки песка.– Только теперь с Испанией… А я-то полагал, что после победы над Францией Россия будет вкушать долгий мир, добытый славными победами. Так все-гда: то, что вчера было истиной, завтра становится ложью. Странно: когда гибнет один человек – это трагедия, когда тысячи – это просто цифры. Вот и корсиканец57 говорил, как писали газеты: «Солдаты – это даже не пушечный фарш… Это цифры, коими способно разрешать проблемы Империи». Голый цинизм. Но отчего, почему, откуда такая жуткая дикость на земле? Кто виноват? Воистину право Писание, говоря нам: «Знание умножает скорбь». Ну а что же тогда такое мир? – капитан усмехнулся своему наивному вопросу.– Помнится, Дмитрий Данилович по сему случаю заключал: “Мир, господа, меж двумя сторонами,– это лишь кусок лжи между войнами”. А может быть,– Андрей Сергеевич сцепил в раздумье руки,– древо нашей Отчизны следует время от времени поливать кровью патриотов и тиранов?.. Иначе оно увянет… Что лгать себе, пудрить правду розовой пуховкой… Я дрожу за Россию всякий раз, когда вспоминаю, что Соз-датель наш справедлив. Но ведь справедливость Его, брат, не может, не способна спать вечно… Взять хоть наше крепостное право… Чем лучше оно петли рабства на шее, кое восстановил в колониях Наполеон?»
Капитан опустил тяжелые, воспаленные от недосыпания веки. «Отечество мое, дай Господи тебе ума и процветания. Верно замечала мисс Стоун: «Странные вы русские: созерцательные, вдохновенные и… очень наивные». Он тогда, удивившись, спросил «почему?» – «Это у вас надо спросить,—ответила она и серьезно добавила.– Я проехала с Линдой по всей вашей России… О, это нечто! Это потрясает воображение. Ваши просторы и дороги заставляют делаться русской душою, но вот умом – увольте».
«Быть может, она права? Тут самому впору рассудок не потерять… У нас ведь всё наоборот: чем кровожадней тиран иль злодей, тем ярче память о нем и почет… Нет, подобно нашему народу боле не сыщешь. Ей-Богу, блаженный. Каждый второй у нас с каким-то фокусом, выкрутасом: все так и норовят, подлецы, вверх ногами прой-тись по своей правде… И ведь ежли по совести: зачастую просто бездарно небо коптим, ползаем, что жуки в банке, только добрых плетей и заслужили за всю жизнь… А всё это, как батюшка Аристарх глаголил: “…оттого, что скука у нас великая на Руси и грех… И народ наш сонный, как радушен до слез с водкой, так и злопамятен. Ему ж, окромя злости да голоду, подчас и помнить-то нечего, токмо Бог… Тако, тако…”»
Преображенский раскурил вторую трубку, вспоминая приезд Черкасова. Ей-Богу, и тот за столом о том же серчал. Сказывал, полмира под парусом обошел, а такого злодейства и срама, как у нас, хоть режь, не зрел. «Вот и нынче, после небывалой войны с французом, народ русский в который раз до крайности доведен… Крови сколько? Костей своих положили? И что?.. Ослабили удавку на шее? Нет, брат, пуще прежнего затянули ярмо мужика… Ты меня, надеюсь, правильно чувствуешь, тезка? – поднимая фужер, суровел лицом Черкасов.– Я не против царя… Избави Бог, но против слепоты и равнодушия, братец! А ведь народ наш души широкой, что поле без горизонтов, твоя правда, что океан. У нас ведь все, Андрюша, спорить любят, мечтать… замечу, в особицу о справедливости, mon cher, да еще с каким апофеозом в устах. У нас даже каторжник иль вор – и тот мечтает о справедливо-сти, о “серебряных крыльях свободы”. Тысячи хотят зреть то, чего нет, а желаемого и желания в самих нет… Тут и черт ногу сломит, пойди, разберись… Оттого и шепот по России из века в век ужом ползет: дескать, цари у нас “несчастливые”, “недобрые”, “неудачливые”».
Андрей устало провел ладонью по лицу, взвешивая слова тезки, вспоминая погибшего мичмана Мостового с пачкой писем его Лурье… «Да, растрепанный всё же, лохматый наш народ… неровно и торопливо причесанный в столицах под Европу. Ведь зайдешь в трактир иль на станции, где остановиться придется, знобливо душе делается от услышанного, от увиденного отчаяния и нищеты российского вретища. Живем мы, видно, не по евангелию, а по нужде… А что, как прав Черкасов: ежли в Отечестве моем слепец слепцов ведет? Не приведи Бог тогда слепцам узнать о сем… Впору напиться от таких мыслей, чтоб не сойти с ума. Жить становится страшно… Но, верно, стоит молчать об этом? – Андрей сбил драной перчаткой налипшую к сапогу траву и сделал пару согревающих глотков водки.– То, чего не говоришь, никогда не приносит вреда. Это уж точно».
Капитан оглянулся в сторону навеса, где спала Джессика, пытаясь освободиться от своих дум, но успокоиться уже был не в силах. Живые вопросы грызли душу, заставляя работать мозг. Лица друзей и врагов, начальства и подчиненных текли перед глазами подобно бесконечной ряби Колумбии.
«Ох уж, как любим мы говорить о равенстве, о свободе, о гласности, а что это, cобственно? Хаос? Порядок? Бунт? Для неких собраний умов свобода – бездонный омут возможностей вершить то, что желает душа… Для большинства других, а значит и для меня,– это право не делать того, чего не хочется… Но всё сие голубые туманы, брат… Философия… А по мне, так сей предмет дает лишь невразумительные ответы на нерешаемые вопросы… Ладно, что там… Все эти “изнанки” решительно не доведут тебя до добра. Что у собаки вычесывать блох?» Но тут же его вновь, как шилом, кольнула мысль: «Ужели быть кровавому бунту в России?» Ему вдруг здесь, за тысячи миль от родного дома, стало пронзительно больно и обидно за Александра Победителя, за Державу. Но еще более жалко себя. «Нелепая жизнь! Грязный клубок перепутанных судеб… А что, как если человек вообще никому не важен, кроме себя? И муки мои с командой – тоже мышиная возня…» – Андрей вздрогнул, испуганно схватился за грудь. Но тотчас успокоенно улыбнулся, облегченно вздохнул. Румянцевский пакет знакомо захрустел толстой бумагой под пальцами. Усмехнувшись своему беспокойству, он убежденно качнул головой: «Нет, не может сего быть. К черту все эти фокусы. Всё это усталость, истерика, бабство! Давить все чужеродное надо в себе и в России. Нет ничего более святого, чем честь и долг русского офицера пред царем и Отечеством. А ежели и поднимется когда вся эта гниль со дна, то следует пустить на нее Тьму Египетскую, или пусть Господь реки вновь превратит в кровь, и воссмердят они, очистив народ наш от скверны. И не верю я пророчествам Аввакума58. Нет, не взял дьявол у Бога Россию на откуп. И народа я своего не стыжусь, напротив —горжусь его величием и умом. Оттого мне за него и обидно, и больно. А вопросы все эти, что ж… – Андрей помедлил с ответом. Но не выбором нужных слов был он занят в молчании, а прислушивался к своему сердцу, точно ждал от него истины.– Непостижима тайна человеческого есте-ства… Так и ответить на эти вопросы невозможно, как невозможно понять разумом человеческим бесконечность и начало Творца… Откуда он появился? Где его порог?.. В высшей степени глупость и заблуждения, как если вдруг взяться дерзать умом в споре о начале Создателя с позиций земных… Сие равно тому, как отрицать само понятие Бога, а значит, и Государя, помазанника Божьего на земле, и сущность идей границ Третьего Рима. А бунт?» – Преображенский опять оборвал внутренний монолог, задумчиво глядя на зеленые ресницы молчаливых елей, пытаясь представить красное, пляшущее время смуты… Слитный нарастающий гул, мелькающие на улицах факелы, заполошный захлеб колоколов, тяжелое колыхание толпы, вооруженной дубьем, топорами, вилами и отобранным у убитых солдат оружием… Представил рыжие языки пожарищ сожженных усадеб и библиотек, где взлетали и трепетали клочья древних манускриптов, что потом реяли, ярко вспыхивая в жадных языках пламени, и оседали на мостовые черными хлопьями…
«Что ж, пусть тогда во благо покоя будут приняты крутые меры. Самые крутые! Как это было уже не раз… И как это не раз уже спасало Россию».– Андрей мучительно сдвинул брови, на ум вновь пришло окающее откровение отче Аристарха: «Бунтари, сыне, это те чада земные, у кого, может, и доброе сердце, но нету с колыбели желания созидать и проливать пот над честной работой».
Капитан тяжело вздохнул, приподнял голову: в спеющем рассвете поблескивали капли росы на листве, соб-ственное дыхание отдавалось в ушах, будто порывы знобящего сквозняка.
«Вся жизнь в гордиевых узлах,– с горечью подумал он и снова усмехнулся.– Право, недурная строка для эпитафии…»
«Пусть Фортуна послужит вам, голубчик, а попутный ветер легко донесет вверенный вам фрегат до форта Росс»,—как-то сами собой вспомнились теплые, искренние слова командира порта Миницкого, его по-стариковски дрожащие от волнения и внутреннего трепета руки, когда он в последний раз обнимал его у вельбота. Рядом стоял важно набычившийся урядник Щукин, а чуть поодаль его хмурые казаки…
Но фрегата нет более, как нет и дорогих сердцу друзей… Вот бы опечалился старик, ежли б узнал о сем.
Андрей, прогоняя душившие его слезы, уронил лицо в ладони: «Господи, отчего же мой жребий таков? Единственное, о чем приходится сожалеть ныне в моей ситуации,—так это о том, что я – это я…» Перед мысленным взором уже привычно потянулись проступающие из небытия лица погибших моряков… Он крепче сдавил перстами виски и сильнее смежил глаза, из которых текли слезы боли.
Ему показалось, что он даже услышал тихий говор команды, увидел сильные, добрые руки и тот знакомый, стойкий и родной огонь в очах, огонь потомственных русских Алкидов и Одиссеев. Людей, сильных духом, верой и волей.
Преображенский утер грязным, рваным манжетом слезы, сыграл желваками… Позолоченная солнцем река, казалось, шумела тише, точно скорбно оплакивала вместе с ним погибшие души моряков.
«Кто сберег свой живот, сын, тот не спас свою честь,– вспомнилось офицерское присловье отца.– Нет, брат, эти люди были другой породы и племени… Господи, упаси их души и даруй им вечный покой… Все они были России солдатами и пали героями… Служба для них Державе горба не набивала…»
Капитан, прислушиваясь к тихой возне начавших сборы матросов, подумал: «Честь, долг, счастье… Всю жизнь человечество пребывает в поисках “синей птицы”… Вот и мы так же… А не есть ли сей поиск удачи и счастья род-ником бед?.. – Он посмотрел на свои избитые, в ссадинах руки и пожал плечами.– Не знаю… Трудно понять, еще труднее ответить на всё это. А разве когда жизнь в России была понятной и легкой? А сама Россия? Нет, брат ты мой, сторона наша не Европа. Ее, как Голландию иль Англию ту же, в наперсток не всунешь… Ладонью на ландкарте не закроешь, врешь».
Желая прогнать усталость и столь знакомую обморочную слабость, что пела по-комариному в ушах, он вторично воспользовался фляжкой Палыча, кожаный чехол которой был приторочен к поясу кожана. Водка, как верная подруга, вновь согрела грудь, покусывая желудок, разбежалась по жилам. Навалившиеся вопросы раздражали, давили сердце своей неразрешимостью и неуместной настойчивостью, однако он сумел сдержать злобную досаду, не пустив ее глубоко в душу.
«Вся жизнь моя ровно сон: жизнь в Петербурге, позже в Охотске, теперь Америка… о коей глупо ребенком мечтал во снах… Вот она, вот – под ногами. Ну что, сыт? —он ударил каблуком по земле так, что заныла стопа.—Черт, и сейчас всё… будто не со мной, словно со стороны, точно повесть чью-то внимаю. Ну да будет тебе, ты – офицер, и помни о сем, как о имени, данном тебе при крещении. А посему, пожалуй, проще сделать святого из распутницы, чем из меня плаксивую юбку. Главное, как шутил за рюмкой Дмитрий Данилович: “Стоит служить так, чтобы не в зазор было продать домашнего попугая на городском рынке”».
Жить – значит действовать. Андрей, опираясь на шпагу, как на трость, поднялся с замшелой лесины. Растрепанные мысли мешали сосредоточиться на главном. У костра призывно скрипнули дужкой походного котелка, приглашая к чаю, когда Преображенский, сам не зная почему, припомнил две странные фразы Джессики, сказанные после переправы с какой-то задумчивой грустью и внутренним волнением: «Слова в этом мире погубили больше душ, чем все происки Люцифера, вместе взятые», и вторая: «Большин-ство людей продают душу дьяволу и на вырученное живут с “чистой” совестью». Что она имела в виду? Возможно, свою больную мать? Или отца, о котором как-то туманно оговорилась? Он вдруг явственно вспомнил их беседу, когда матросы шестами столкнули ненужный плот в воду.
– Бог милостив. Мы спасены, Andre. Знаешь, мне так приятно и спокойно, что ты не такой, как другие.
– А какие другие? – Андрей тогда долго смотрел на Джесси, любуясь ею сквозь сырую одежду.
– Другие? – она ловко отжала сырые концы волос и, принявшись за юбки, ответила: – Жадные до наживы, жестокие, мелочные…
– Да. Я не вижу себя таким, но…
– Вы как мой отец, сэр,– легко перебила она.—Вернее, очень похожи в своих действиях и поступках. А я уважаю сильных, решительных мужчин, которые умеют владеть не только деньгами, но и шпагой. Особенно в этих чудовищных местах…
– Но Америка как будто ваша родина, мисс. А вы, я заметил, всегда столь резки в ее оценках. А как же ваша столица Вашингтон?
– О, прошу вас,– она брезгливо стряхнула воду с руки,– не вспоминайте об этом главном стойле коров и лошадей. А что до патриотизма и происхождения, согласитесь, Andre, совсем не обязательно быть рожденной в шелках иль на соломе, чтобы любить свой край. А уж критика, глупо спорить, еще никому не мешала.
– Боже милосердный, вот как… – Преображенский лишь покачал тогда головой.
– Мой капитан,– она доверительно улыбнулась.—Прошу вас, обвяжите мне шею шерстяным чулком. Это лучшее средство от простуды. Благодарю вас, сэр. Ваше внимание и доброта помогли мне. Поверьте каждому слову, эти качества делают вам честь, капитан. Я, наверное, очень глупо выглядела, когда сорвалась в воду?
– Я не присматривался. Возможно, но как очаровательно.
Они рассмеялись и в первый раз огляделись вокруг. Их окружал густой лес из громадных многовековых деревьев, под коими почти не было подлеска – девственный лес, который никто никогда не рубил, не портил подсочкой, поэтому кусты и не могли вырасти.
– Знаешь, мне жаль прожитых лет без тебя.– Она пугливо ткнулась губами в его колючую щеку.– И вот что… Мы как-то уже говорили на эту тему. Прошу тебя, дорогой, не говори мне «мисс Стоун», ты прибавляешь мне всякий раз лишний год к моему возрасту. Лучше как уж было —Джессика или просто Джесси.
– Как изволишь, душа моя.– Андрей поспешил перенести ее тяжелый саквояж с вещами и, помогая устроиться у огня, спросил: – Прости, пусть это не покажется невежливым, но ты никогда не расскажешь мне о себе…
– Не волнуйся. Из-за моих прошлых лет в салунах и трактирах о нас грубо и непристойно шутить не будут.
– И это всё, что ты мне можешь сказать?
– Знание мелочей делает из женщины леди, но джентльмена…
– Довольно. В конце концов я поступаю, как велит мне долг.
– Но не честь, не правда ли?
– Нет!
– Да.
– Нет! Джесси, ну почему? Откройся! Пойми и меня… Как бы ты поступила на моем месте?
– Мы каждый на своем месте, сэр! О Боже…
– Нет, постой! А что прикажешь делать ты? – скулы Андрея напряженно дрогнули.
Она лишь едко усмехнулась ему в глаза и, нервно принявшись за просушку вещей, сказала:
– Исполняйте свой долг, капитан. Чего же еще? – она дернула плечом, когда его коснулись пальцы Андрея.
– Дорогая, зачем же так?
– А зачем вас всех интересует чужая жизнь? Может быть, потому, что она отвлекает вас от собственной скуки. Даже здесь, на краю света, решительно нельзя ничего скрыть… Что вы молчите, или уже разлюбили? Спокой-ствие потеряли?
– Разумеется, мисс Стоун, я был бы куда спокойнее, если бы вас не было с нами и мне приходилось бы нести ответственность только за экипаж, но… Я боюсь потерять вас.
Эти слова, сказанные тихо, но твердо, как мягкий, настойчивый стук в двери будуара, растопили сердце Аманды. Она медленно поднялась и, кутаясь в дымную вуаль костра, виновато сказала:
– Ты более не сердишься на меня? – леди стояла перед ним, сжимая лицо узкими изящными ладонями, и чуть заметно вздрагивала.
– Джесси… успокойтесь. Я лишнего вспылил. Сердился было раньше, а нынче нет.
Она благодарно улыбнулась, светлея лицом.
– Прости, что я так… Отец, мать… – это больные для меня темы. А мы с тобой… у меня на родине говорят: «Держи дверку клетки открытой, чтобы птица могла вернуться».
– А я ее и не собираюсь открывать.– Он снял ее руки с лица и указал на место рядом с собой, присаживаясь на вещевые мешки.
– Andre,– Аманда на секунду споткнулась, глубоко вздохнула, отбросила упавшую на лоб прядь.– Я знала, когда-то настанет этот день, этот час. Что же, давайте говорить начистоту, если мы ценим и любим друг друга. Молчите… Я знаю, у вас ко мне много вопросов. Пусть будет так… Спрашивайте, я готова ответить.
56
Вольтер, Мари Франсуа Аруэ – знаменитый французский писатель-философ, имевший громадное влияние на умственное развитие Европы, поборник веротерпимости и свободы (1694—1778); поэмы («Генриада»), драмы («Эдип», «Брут», «Заира», «Альзира», «Магомет», «Мерона»), пародии («La Pucelle»), сатиры («Кандид, или Оптимизм», «Макромегас» и др.), исторические («История Карла XII») и философские («Философ-ские письма», «Начала философии Ньютона») сочинения. На русск.: «Романы и повести». (Прим. автора).
57
Корсиканец (Бони, Голиаф, дикарь) – прозвища в Европе Напо-леона.
Наполеон (1769—1821), французский император, основатель династии Буонапартов; второй сын Карла Буонапарте и Лютеции Рамолино, родился в Аячио (на о. Корсика). Будучи капитаном артиллерии, отличился в 1793 г. при взятии Тулона, находившегося в руках англичан, за что и произведен в генералы. Как сторонник Робеспьера, при падении последнего лишен чина, должности и заключен в крепость, откуда, впрочем, был вскоре освобожден; оказал правительству (Барраса) услугу, подавив восстание роялистов, и получил за это пост командующего парижскими войсками. Во главе итальянской армии Наполеон (1796—1797) совершает блестящий поход в Италию, закончившийся крайне выгодным для Франции Кампоформийским миром с Австрией и вызвавший общий восторг перед доблестным полководцем. После похода в Египет Наполеон вместе с Сиейсом произвел переворот 18 брюмера (9 ноября 1799 года), назначив себя одним из трех членов консульства; вслед за этим провозглашает себя первым консулом сначала на десять лет, а позже, после Люневильского мира, пожизненно. В это время Наполеон дал Франции новое устройство, значительно улучшил финансы, прекратил преследования эмигрантов и духовенства, издал знаменитый Гражданский кодекс, но не стеснялся подавлять проявления общественной самостоятельности, ссылал своих противников, закрывал десятками газеты, стеснял, а затем и совсем уничтожил трибунат (законодательное собрание того времени), восстановил в колониях рабство, казнил герцога Энгиенского. Несмотря на то приобрел такую потрясающую популярность, что сенат провозгласил его императором (1804 г.). Только Карно в трибунате и Грегуар в сенате протестовали против такого похищения свободы. После этого начинается ряд знаменитых его походов в Европе, отмеченных именами Аустерлица, Иенны, Эйлау, Фридланда, похищением папы Пия IX и пленом его в Фонтебло. Звезда Наполеона начинает меркнуть с 1812 г., со времени его грандиозного похода в Россию, предпринятого в то время, когда еще не была кончена война с Испанией. Затем начинается ряд преследований его союзной армией, а именно русскими войсками, которые в 1814 г. вторглись во владения Франции. Наконец Наполеон отказывается от престола, и его ссылают на о. Эльбу; в 1815 г. он бежит оттуда, является во Францию, но царствует всего лишь 100 знаменитых дней. В битве народов при Ватерлоо он попадает в плен, и его под конвоем отправляют на о. Святой Елены, где он и живет до смерти под надзором англичан. Прах Буонапарте перевезен в Париж в 1840 г. (Прим. автора).
58
Аввакум Петрович – знаменитый расколоучитель XVII в.; протопоп гор. Юрьева-Поволжского; славился как проповедник и ревнитель православия; в 1665 г. восстал против новшеств, введенных Никоном; защищал старый чин службы во многих сочинениях и письмах («Бытие о московском падении», «Ответ о причастии» и мн. др.); был ссылаем в Сибирь; просидел в земляной тюрьме в Пустозерске четырнадцать лет; написал грозное увещательное письмо царю Федору Алексеевичу; был предан казни за стоическое упорство через сожжение в 1681 г. Его автобиография («Житие протопопа Аввакума») замечательна как блестящий образец меткого, сильного, сжатого русского языка. (Аввакумовщина —крупная секта последователей Аввакума). (Прим. автора).