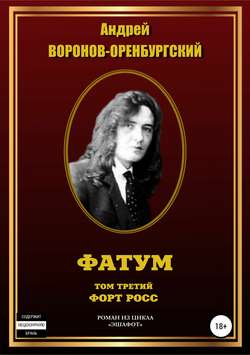Читать книгу Фатум. Том третий. Форт Росс - Андрей Леонардович Воронов-Оренбургский - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 2 Оборотень
Глава 9
ОглавлениеПалыч не смел пошевелить ни рукой, ни ногой, глядя на свернувшуюся в рябой клубок гремучую смерть. На какое-то время выстрелы, барин, поиски американки тут же забылись. Он стоял, сжимая в руке ружье, окаменев от страха. Ядовитая тварь в аккурат нацелилась на его колено, чуть выше обреза сапога.
«Вот вкосилась-то моя судьбинушка… в чужую ме-жу… – безмолвно прошептал он.– Эх, чтоб тебе, ползучей, Господь глаза выбоднул, да жалище твое поганое вырвал…»
Змея будто услышала его – плоская треугольная голова мгновенно поднялась выше и теперь целилась в пах. Ороговевшая трещотка на ее хвосте зловеще тряхнула, словно в надутый бычий пузырь детская рука бросила горсть сухого гороха.
У старика сердце обливалось кровью, когда он услышал донесенный ветром голос своего капитана, но он, точно заговоренный, продолжал смотреть на змею, судорожно сглатывая слюну. Сердце-вещун подсказывало казаку не делать резких движений. Шаткий ветрец сронил его седой редкий чуб, что поналип к сырому лбу, продувал взмокший от пота кожан, но Палыч более чуял, как его напряженную плоть всё крепче, что та лихоманка, забирала трясучая болесть46.
Прошла не одна минута, прежде чем он, изловив миг и собравшись с духом, очень бережливо стал поднимать свободную руку к своей голове.
– Тише, тише, родная, погодь, двуязыкая, маненько погодь… – точно заговор зашептал Палыч.– Самую малость взмились, хозяюшка, взмились…
Гремушка змеи вновь затрещала, а леденящий кровь серо-коричневый треугольник головы опасно качнулся вперед. У вестового капитана вновь перехватило дыхание, точно кто-то незримый припер его горло рогатиной. Старик знал, какой молнией атакует гремучая змея. Как ни старайся, а ноги ему не убрать от ядовитого укуса. Глаза ломило от напряжения, пот ручьился за поясной ремень, сердце застряло в горле, когда пальцы его стянули-таки с головы войлочную шапку… И тут же рябой клубок выстрелил броском…
Зубы змеи продырявили войлок, но Палыч уже отбросил ружье и свободной рукой ухватил свою смерть у самой разинутой пасти. Пестрые толстые кольца тут же обвились вокруг руки, сдавив ее так, что она посинела, но в следующий момент деревянный каблук, обитый железом, с хрустом размозжил голову змеи о ближайший камень. Хвост затрусила мелкая сыпь агонии, и обмякшее тело выпало из руки казака.
– Ну вот, гадюка,– Палыч спешно перекрестился, подхватывая ружье.– Как говорится, по молотищу и боище. Знай наших! Нас ведь тоже не на дровах нашли.
Секунду спустя он уже сбивал сапоги на выручку капитану.
* * *
Ладони Андрея горели от напряжения, когда он преодолел половину своего пути. Свинцовая бахрома листвы, из которой прежде харкала огнем смерть, продолжала подозрительно молчать. Преображенский слышал только тревожный треск насекомых в траве да тяжелый стук своего сердца.
– Далеко собрался, капитан? – прерывистый бас Зубарева, как штык в спину, заставил замереть Андрея и повернуться.
В семнадцати саженях от него стоял он. Пальцы левой руки каторжника горстили на затылке Джессики волосы.
Ноги Андрея похолодели. Она была вся в царапинах, крови и едва держалась на ногах. Перепачканное платье было рвано в клочья так, что ее полные груди вывалились из надорванного корсета. Андрей видел ее темные соски, которые пыталась прикрыть ее обессилевшая рука, как, впрочем, и обнаженные бедра. С побелевшими от страха губами она захлебывалась от удушья кашлем.
– Назад! – властный окрик Матвея заставил Преображенского остановиться. Убийца, прихрамывая на одну ногу, дернул за волосы свою пленницу и, не убирая ножа от ее горла, вышел из густой тени скалы, за коей чуть ранее укрывался Андрей.
Вид Зубарева, признаться, потряс его не менее Джессики. Выглядел он как приговоренный к смерти, решимость которого не знает границ. С напряженным и пепельным от болевого шока лицом, приволакивая правую ногу, он зажимал свободной рукой рану на правом бедре, почти у самого пояса. С него градом сыпался пот, орошая песок вокруг, и ярким следом тянулся за ним, смешиваясь с кровью.
– Стоять! – с трудом переводя дыхание, вновь угрожающе прохрипел он и, скрежетнув от боли зубами, подтянул за волосы к себе ближе заложницу. Носок его правого ялового сапога приобрел густо-малиновый цвет.
Капитан не мог ни пошевелиться, ни вымолвить хоть слово. Он лишь неотрывно взирал на убийцу, чувствуя, как ненависть и отчаянье застят ему алым цветом глаза.
– Что ты с ней сделал? – глухо наконец вырвалось у него.
– Ты этого уже не узнаешь,– чиркая меж зубов слюной, сцедил Зубарев.– Не стерви, не стерви, капитан… брось пистолет! И спицу свою, ну! – Матвей кивнул на зажатый в руке офицера клинок.– Я смекал, что эта девка,– он тряхнул, как выдернутую морковь, за волосы Джессику,– сделает тебя поострее на ум, но, похоже, всё вышло иначе… Ну, ну, не балуй, барин! —вновь прошипел Зубарев, заметив, как сжались кулаки Андрея. Слепящее на солнце лезвие ножа глубже вдавилось в нежную шею.—Гляди, мизгирь, ежли хоть выцыганишь у судьбы один шаг, то вместе со мной прихватишь и ее голову. Я этой «дурой»,– каторжник звонко щелкнул ногтем по стали,– и не таким до позвонков на горле «улыбку» дарил. Помнишь небось Рыжего? – глаза Зубарева, как булавки, кольнули Преображенского.– Ну тот, со Змеиного Гнезда, что в корме со своими псами чуть не загрыз тебя… Так что я… вот этой «Машкой» им уши «улыбкой» связал… А хошь? —Матвей, презирая боль, вызывающе блеснул зубами.– Я поцелую ее за тебя?.. Откушу язык твоей суке, а потом выплюну его тебе на память… Ну, что молчишь, брат? Али не по ноздре табак? Обхожденье мое?
Андрей продолжал стоять, не в состоянии что-либо изменить. Шпага и пистолет, зарывшись в песок, валялись у его забрызганных грязью ботфорт, а сам он, казалось, был прострелен в сей миг пулей жестокого прозрения.
Только сейчас, в эти мучительные минуты он осознал, сколь высоко взлетел он, но, увы, не в осмотрительности, а в глупом доверии ближнему… Как бездарно, как самонадеянно он почитал себя самого, полагаясь на свою проницательность и радуясь своей силе и триумфу над теми, кого считал врагами… А друзья, змеиная суть коих скрывалась за тонкой, как первый лед, маской лукавого пре-дательства?.. Дрожь бессилия и внутреннего крика передернула плечи. Он пронзительно долго всматривался в эти безжальные, с холодной искрой торжествующего злорад-ства глаза и ужасался тому, прежде незримому огню скрытого от всех нелюдского, черного замысла, зерно коего не дано было ему постичь. «А ведь я доверял ему… – снова застучало в висках.– Так доверял…» Андрей стиснул зубы: «Боже ж ты мой! Я, признав в нем спасшую меня ослепшую силу, ослеп и сам… на его воле и твердой поступи я, как наивный птенец, вознес и себя, не разглядев, что за мощью и статью, похожей на живую плоть, нет ничего, кроме мести и зла, что разъели всё человеческое, доброе до костей».
– Ты ли это, Матвей? – Преображенский едва удержал себя от шага. Лицо исказило сомнение.
– Твоя совесть, брат. Что? Никак шибко лицом изжился? Да… Времечка много истекло. Я тебя тоже не сразу признал… Да добрый человек шепнул.
– Так ты оборотень? Твое настоящее имя? – глаза Андрея вспыхнули.
– А я его не сказал,– как короткий железный звук, донесся ответ.– Ты сам его вспомнишь…
– Не глупи, Матвей! – осек его капитан.– Лучше по добру отпусти мисс Стоун. Скоро здесь будут мои люди, и тебе, один бес, не уйти от кары. А ты, похоже, себе уже два века аршином намерил?
– Брось пугать меня,– Зубарев крепче придавил к своей груди бледную Джессику. Рельефные мускулы на его предплечьях вздулись ремнями и перекатились под кожей. Жертва застонала и забилась от боли, но Зубарев, не обращая внимания на слезы Джессики, лишь хохотнул в лицо капитана.– Моли, чтобы смерть ее и твоя не была лютой…
– Но за что? За что?! – срываясь на крик, едва не теряя равновесия, взорвался Преображенский.– Какое зло я тебе сотворил?.. Когда?..
– Ты? – скулы каторжника мелко задрожали, как клыки секача, в голосе зазвучала стужа.– Не мозоль язык, брат. Дело мое решенное – заклятое на крови. Что ж это ты, мизгирь, жилу родную забыл? Фамилии своей сторониться стал, коль другую, как кафтан, на себя набросил?.. Али мести моей боялся?.. Ну, что ты пялишься на меня, аки груднец на попа? Неуж Митрофана не признал?
– Да ты в уме ли?!
– А то…
– Не обманешь еще раз! Не брат я тебе! Христом заклинаю, сие – сумасшествие. Отпусти ее, зверь! Лучше меня убей, но прежде… помолись! Лишь в Боге сила!
– Врешь, барин, в правде!.. В ей одной, и ты, гнида, о сем вельми как знаешь. Эй, ты! – он, как тряпичную куклу, снова тряхнул Джессику, поставив впритык к ее щеке нож.– Мы ведь с твоим хахалем в одном доме росли. Токмо сия барчуковская щень опосля в люди блохой скакнула… в графья, твою мать… а я – в колодники на цепуру. И вся эта качеля по его изволу, да нашего кровного отца —вурдалака, чтоб ему на том свете на сохе поторчать! Так что спознай, сука, с каким кобелем тебя жизнь снюхала. Жаль, мизгирь, что я тебе животину допрежде не распорол и кровью твоей не умылся, но уж верь, больнёхонько жаждал попытать я тебя да помучить, чтоб понял ты… прочуял всю горь мою беспросветную и соль слез моей матери, что обозной шлюхой под солдатами сдохла.
Что? Тошно стало? Поджилки дрогнули?! – Митрофан с чавканьем оторвал ладонь, что зажимала пулевую рану на его бедре, и медленно вытер ее о груди Джессики. Агонизирующее безумие вспыхнуло в его глазах, которые сводили с ума своим мертвенным блеском, точно сырой мрамор, со лба сорвались частые капли пота.
Тяжелые руки заторели47 от напряжения, когда он, не спуская с капитана торжествующего взора, натуженно прохрипел:
– А теперь прикинь, брат, как я сбивал железом мясо до костей на Сахале… Знаешь, что это такое, когда в твоих гниющих язвах копошатся черви?.. Ты, ты убил мою жизнь, невесту и мать… И тогда я и поклялся, задыхаясь от вони и смерти барака… Мечтаньице у меня зародилось одно… добраться до вашего корня. Жаль, что отец наш отдышался до сроку… А то б я и до его горла, хоть на четырех костях, но дополз… Ты же нынче… господином стал… За один стол не сядешь со мной… А помнишь ли ты, как Дарью мою силой сломал, как плюнул ей в душу, в мольбу и слезы ее… Помнишь, мизгирь? Но тебе всё то блажью виднелось, харкотиной на земле, знамо… как говорится, дворянский сын гуляньем сыт. Молчи! Даже поперек смотреть не моги! Это я, я – брат твой – там… с голодухи пух, а ты жировал, сволота. И жалобить меня не смей! Ты и так свой век на чужой беде прожил, жрал на серебре и чужих невест портил. Мне до твоих слез, как тому цыгану до сдохшей кобылы. И ты, девка, не обмирай телом! – Митрофан звонко хлопнул ее по обнаженному бедру и, заглядывая глумливо в глаза, пробасил: – Ты еще почуешь моего зверя между ног. Изголодалась, поди, одну траву жрать? А ты, подпесок, гляди и терпи, терпи ее правду! Должок платежом красен! Ноздря сбивок не дает!
По телу Андрея, под насквозь пропотевшим мундиром, прошел знобливый сквозняк, во рту пересохло. Он неотрывно смотрел на сияющее синью лезвие ножа длиной в семь дюймов, острое и заточенное, коим Матвей брился на корабле не хуже, чем цирюльной бритвой. Рукоять его была покрыта мелкой насечкой и витками жильной нити, впитывающей влагу. Даже если случится, что рука вспотеет, можно быть уверенным, что нож не выскользнет, не провернется. В решительную минуту опасности такой нож —незаменимая вещь.
Точно считывая мысли капитана, Митрофан сухо ухмыльнулся:
– Ты, поди ж, не знаешь, как я управляюсь с ним?.. —И, не дожидаясь ответа, обрубил: – Я родился с ножом в руке, так что…
– Да ты с кем лаешь, пес?! – жгучая, как соль в ране, ярость взмятежила и захлестнула душу Андрея.– На кого ты дерзнул руку поднять, висельник?! Не сметь!
Преображенский, теряя последние крупицы благоразумия и острастки, без оружия двинулся на Ноздрю. Слепота отчаянья и стучащая в висках молотом кровь исказили его лицо. «Раз уж смерть вскрыла свой лик, то что же ребенком прятать в ладонях свой!..»
Он не слышал боле угроз убийцы, хотя у него на глазах Митрофан выхватил из-за пояса пистолет. Страх вконец канул из его сердца вместе с последним мучительным вопросом: «Как быть?» Он шел на свою погибель, глядя глаза в глаза, но не думал о том, как ранит, что вот-вот его срежет свинец и от боли сорвется дыхание, а налившееся тяжестью тело рухнет к его же ногам… Он шел шаг за шагом, бряцая пустыми ножнами, крепкий духом и мыслью, что ежели Господь будет щедр на милость, то он, вскормленный примерами чести и долга русского офицерства, истекая кровью, сумеет узреть и ту свою жизнь, где нет места лжи и торгашеству с собственной совестью, где не продано страху достоинство, где честь дворянина омыта его кровью, но дамы честь не поругана… И ежели быть посему, и так угодно холодному Фатуму, то он падет с надеждой и верою, что наконец-то замкнулся и очертился последний круг его земных страданий.
46
Трясучая болесть – лихорадка (народн.).
47
Затореть – стать тверже. (Прим. автора).