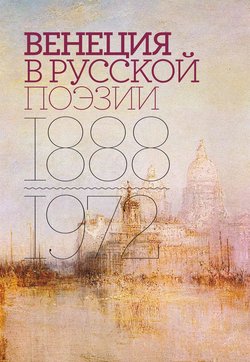Читать книгу Венеция в русской поэзии. Опыт антологии. 1888–1972 - Антология, Питер Хёг - Страница 19
Венеция: исторический путеводитель
18
ОглавлениеОбычно путеводители рекомендовали путешественнику оставить багаж на станции за символическую плату (10–15 чентезимо с единицы) и, не торопясь, выбрать себе гостиницу, а уже потом послать за пожитками, – но в Венеции план действий был другой. Некоторая доля прибывающих бронировала номера заранее по телеграфу, поскольку в сезон можно было столкнуться с нехваткой мест: так, сюжет рассказа банкира-мистика В. К. Келлера «Призраки Венеции» завязывается благодаря тому, что для визитера не находится комнаты в отелях и он вынужден пользоваться гостеприимством гондольера[202]. Некоторая доля независимых странников садилась на пароход-вапоретто, ходивший по Большому Каналу до Giardini с раннего утра до полуночи (интервал движения – 15 минут, билет – 10 чентезимо, багаж бесплатно)[203]. Но основным транспортом для поездки от вокзала до отеля была гондола.
У перрона прибывающий поезд встречали комиссионеры всех крупных венецианских отелей – те, у кого были заранее забронированы номера, просто передавали им багажные квитанции и садились в гондолу; прочие могли выбрать между конкурирующими предложениями гостиниц. Непосредственно в процедуре препровождения пассажиров в гондолу принимало участие несколько лиц – facchino (ведающий багажом носильщик), rampino – старичок с багром, придерживающий лодку[204] в небезосновательной надежде на два сольди, комиссионер-распорядитель и сам гондольер. Смена земной стихии на водную и первые минуты пути между вокзалом и гостиницей – один из центральных пунктов любого венецианского травелога. Приведем первым отрывок из воспоминаний М. Де-Витта, чей единственный известный нам вклад в литературу – публикация мемуарного отрывка в сборнике, издававшемся учениками Уманского среднего строительно-технического училища. В момент путешествия ему было семь лет:
В Венецию мы прибыли поздно, часов в 12 ночи. Пройдя вокзал, мы вышли на другую сторону здания. К моему удивлению, вместо улицы я увидел большой, широкий канал, наполненный водою, который, как мы потом узнали, называется «Канал Гранд»; он заменяет в Венеции главную улицу: вместо извозчика нам подали «гондолу» – род лодки, окрашенной в черный цвет. На гондоле помещается будка, обтянутая снаружи и внутри темным сукном. Руля гондола не имеет, лодочник, или как он там называется «гондольер», стоит на корме лодки-гондолы лицом к ее носу и гребет одним веслом.
В эту гондолу да еще и ночью было довольно жутко садиться при слабом вообще освещении Венеции. Когда мы сели в гондолу, то она погрузилась в воду почти до краев, и я, имея от роду 7 лет, испугался не на шутку… Мы ехали долго, около часу до гостиницы[205].
Совсем другим было впечатление у семнадцатилетней М. А. Пожаровой, с чьими путевыми заметками мы уже встречались:
Поезд прошел через лагуны. Мы в Венеции.
Когда я вышла с вокзала и стала в гондолу, передо мной развернулись очарованные берега сказки и сама я стала играть роль заблудившейся странницы, попавшей в фантастический город.
Лунная ночь задумчиво ласкала трепетную воду осеребренного, убегавшего в смутную даль канала; длинные красноватые отражения фонарей дробились в мерцающей зыби, а ряд темных зданий, погруженных в сонное безмолвие, отбрасывали, как траурные вуали, мглистые полосы холодных теней. Я смотрела едва дыша, охваченная оцепенением, вся во власти нового, неизведанного чувства, которое постепенно спускалось в душу глубокой и таинственной истомой.
Длинная и тонкая гондола легко и спокойно скользила вперед, под убаюкивающие всплески весел, и чудилось, что это черный лебедь несет тебя по волшебной стране. Вот тусклая линия маленького канала выбегает из сумрака зеленоватой лентой – и быстрым, почти неощутимым поворотом мы въезжаем в чужое пространство воды, сдавленное почерневшими, местами облупившимися, стенами. Два-три одинокие огонька мерцают рубиновыми точками, старый мост перекинулся изогнутой аркой, как единственное звено между этими мрачными домами, загадочно выплывающими из его водной глубины. И чувствуешь, что ты – в средневековой легенде, и спрашиваешь себя, наяву ты или во сне. Фантазия растет с каждым мгновением, пополняя таинственными образами эту удивительную, невообразимую действительность. Невольно вздрагиваешь от звука шагов по мосту, представляя себе нагнувшуюся к перилам сумрачную фигуру в атласном плаще, с надвинутой на лицо шляпой. Еще несколько маленьких улиц – и перед вами развертывается Большой канал, весь светлый от лунного блеска и от горящих фонарей, весь серебристо-зеленоватый, с широким горизонтом вдали, с ласкающей красотой своих мраморных палаццо, которых не успеваешь разглядеть, но уже чувствуешь все обаяние их тонкой и прихотливой прелести. Последний поворот, последние взмахи весла, разбивающие искристую воду. Ошеломленные всем увиденным, озадаченные до глубины души, чувствуя, что этот странный город перевернул все мои прежние понятия, я схожу на берег и бросаю последний взгляд на рассеянную вокруг загадочную красоту[206].
Уже хорошо знакомая нам семья, неудачно прятавшая папиросы перед итальянской таможней, была избавлена от хлопот с потерянной багажной квитанцией (легковерным итальянским носильщикам оказалось достаточно того, что ключи пассажира подошли к замкам сундуков), но не без труда поместилась в неустойчивое транспортное средство:
Действительно, мы были in dreamy-land. Час был поздний, тот час, когда верится, что призраки оживают на земле, и перед нами призрачно и пустынно простиралась вода, а анфилада дворцов, опрокинувшись в серебристую струю, будто догорала в глубине ее огнями давно минувших праздников. Все было безмолвно, и как во сне отсутствовал звук. У широких ступеней, таинственно закрытая, вся черная, ждала нас гондола с молчаливым гондольером на корме. Наш спутник, закутавшись в плащ, с учтивостью и вежливостью какой-то давно прошедшей эпохи подал нам руку, чтобы спуститься в гондолу, но вряд ли мы проявили подобающую грацию знатных дам былых времен; помнится мне, что мы скорее проявили некоторую неловкую робость, и Т. М., высокая и полная дама, так ухватилась за своего мужа, что едва не повалила его в воду. Этот инцидент вызвал едва заметную улыбку у нашего элегантного спутника, но зато, когда мы все вчетвером втиснулись в низкую закрытую гондолу, стало совершенно весело.
Мы плыли по Canale Grande, и, как все итальянцы, с любовью и гордостью относящиеся к своей стране, молодой офицер рассказывал нам историю каждого знаменитого палаццо, мимо которого мы проплывали. И неудивительно, что мне, слушая его, начинало казаться, что мы не прозаичные русские путешественники, мчавшиеся весь день в поезде в сутолоке современной жизни 19-го столетия, а что-то вроде призраков 15-го века, в апогее славы Венецианской республики, и плывем на блестящий маскарад или какой-нибудь торжественный морской праздник. В темноте гондолы кто-то, близко наклонившись, произносил певучие слова, и черные глаза сверкали из-под низко надвинутого головного убора. Два-три раза, пока мы плыли, наш гондольер протяжно прокричал: «Sta-ii», и звук застывал в темных волнах, и в ответ ему раздавался другой возглас отдаленный, как эхо: «Fre-nii», и такая же, вся черная, таинственная гондола, тихо мерцая огоньком, как блуждающий дух, тихо проплывала мимо нас[207].
Почти всегда основная часть плавания проходила по Canale Grande, на который, собственно, выходили парадные подъезды главных венецианских отелей (о чем см. далее), но гондольер, нанятый О. А. Израэльсоном (выступавшим в печати под мимикрирующим псевдонимом Осип Волжанин), решил срезать путь и повез своего седока короткой дорогой:
– Venezia, signore!
Поезд остановился, и пассажиры стали выходить из вагонов. Вслед за другими вышел и я. Длинный дебаркадер был плохо освещен; мелькали желтые огни одиноких электрических фонарей. Скоро мы достигли площадки перед выходом с вокзала. Кругом чернела масса воды, все тонуло во мраке ночи. Смутно выступали стоящие прямо в воде ряды белых зданий. Как раз перед вокзалом высилось здание, увенчанное большим куполом, по-видимому, церковь. Это было очень оригинально и необычно и сразу давало представление о своеобразной, единственной внешности города на воде. Около вокзала в темноте копошились длинные гондолы.
Публика мало-помалу стала усаживаться в них, как у нас усаживаются с вокзалов на извозчичьи пролетки, вместе с багажом и уплывала бесшумно в темноту, к смутно белеющим зданиям.
Сначала мы плыли широким каналом, потом завернули в какой-то узенький коридорчик, с домами, стоявшими с двух сторон так близко, что можно было дотронуться до них. Из этого коридорчика завернули в другой, третий и проплыли их целый ряд; иногда над нашими головами темнели небольшие узкие мостики. Через эти мостики изредка проходили одинокие путники, и шаги их странно-гулко звучали в тишине и безмолвии ночи. Каждый раз, перед тем, как завернуть в новый коридорчик, гондольер наш в довольно широкополой, по-видимому, традиционной шляпе что-то резко кричал, иногда ему в ответ откликались, и тогда навстречу нам неожиданно выползала такая же гондола и как-то удивительно легко пролетала мимо нас, точно это была не лодка, а черная, странная, загадочная птица.
Проблуждав по целому лабиринту узких, темных коридорчиков, мы снова выплыли на широкий канал, – это был Canal Grande, – с рядами больших зданий и освещенных окон в них. Где-то подле них в нескольких местах маячили желтые огоньки. Это встречали с фонарями в руках у отелей приплывающие лодки с туристами. К одному из этих зданий с блуждающими огоньками внизу направились и мы[208].
Классическим путем везли Андрея Белого и А. А. Тургеневу: их венецианская поездка представляется среди всех писательских едва ли не рекордной по соотношению проведенного в Венеции времени и объема итогового травелога: Белый описывал ее трижды, каждый раз наособицу, в трех больших очерках[209] (не считая писем с пути и упоминания в мемуарах):
Помню, как встала из моря Венеция стаями дальних домов, открывавших пунцовые и золотые огромные очи; на нас поглядела очами; и к нам приплывала домами; втянула в вокзал, переполненный гомоном, рыком и свистом:
– «Facchino!..»
И он – появился, схватив наши вещи; мы мчались куда-то за ним сквозь вокзал мимо касс, обвисающих черными, петушиными перьями бравых жандармов с такими усами, что – ооо!
Оказались у берега, в берег, живее, плескали яснейшие воды канала; и то – «Canal Grande»; он весь – в диадеме огней, раздробляемых, пляшущих змеями; тихо плывут, подплывая, какие-то черные лебеди; ближе – и нет: катафалки. Подплыли: гондолы!
Изогнутым носом одна закачалась у ног; задрожала корма под ногою у Аси; когда гондольер протянул свою руку; другою вцепившись в весло, им отталкивал нас; полетели по ясной воде; диадемы огней зализали гондолу, перебегая от дальнего берега: встретились с грезой своей, в ней зажили; а прошлое: Вена, Варшава, Москва – отплывали. <…>
Я помню тот миг: гондольер, повернувшийся к нам, показуя куда-то веслом, говорил:
– «Дворец Ферри!»
Пятнадцатый век обставал; вот – Риальто; и вот – Джакометто; и некогда тут проходили суда, нагруженные винами; тут от Риальто до Марка шли линии ароматических лавок.
Смежили глаза; и – бесшумно скользили куда-то; открыли: все – пусто; ни звука, ни тени; пожалуй, есть звук переплеска подъездов (подъезды ступенями сходят в зеленую воду); пожалуй есть тени домов: косяки, как платки, на луне; и – канал проходил за каналом.
Площадь размерами с комнату изредка справа и слева порой открывалась; от серого, тусклого бока палаццо над ней изгибался, тусклейший фонарь, освещая резное, какое-то неживое пространство; и призрак гондолы чернеющим клювом скользнул мимо нас.
Поворот: и вот – мостик; под ним проезжаем; по мостику сверху бегут: топотня голосов и шагов; края модного магазинчика бросили ярко в канал светоглазые окна; и светопись, переливаясь рыбёшками, пробриллиантилась в мутно-зеленой воде; и опять – никого; тихо плакало в сумрак весло под немыми палаццами; тихо мелькнула своим катафалком гондола; и тихое тренье гондол; громкий окрик, и – лебедь иль гроб (я не знаю) такой теневой, такой черный, изрезанным клювом – прошел в темноту[210].
202
«– Теперь сезон; комнаты надо заказывать заблаговременно телеграммой.
– Да вы, вероятно, полагаете, что я сам деньги делаю? Телеграммой заказывать комнату. А! Подумаешь, принц путешествует» (Келлер В. Глаза зверя. Пг., 1916. С. 248).
203
Ср. афористическое описание транспортной дилеммы: «<…> vaporetti зато – шумные и веселые, и на них можно узнать много любопытных вещей. Они были бы, пожалуй, вполне терпимы, если бы эти милые бывшие республиканцы курили менее демократический табак и если бы собаки капитана не клали тебе на колени свои мокрые лапы» (Конопницкая М. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М., 1959. С. 150). Впрочем, уже в начале века технический прогресс, воплощаемый вапоретто, иным казался несовместимым с Венецией: «И как ко всей этой поэме не подходят наши пароходики, которые снуют по каналу, свистят и шипят и волнуют тихие воды. Впрочем, эти пароходики очень удобная и дешевая штука, можно по всему каналу взад и вперед ездить любоваться дворцами – и это удовольствие стоит гроши» (письмо К. Ф. Богаевского К. В. Кандаурову от 29 января 1909 г. // Панорама искусств. Т. 4. М., 1981. С. 150).
204
Об этом характернейшем венецианском типаже вспоминают многие мемуаристы: «Гондола наша приблизилась к берегу, и перед нами тотчас выросла худая, небритая фигура в характерной шляпе и плаще итальянского пролетария, с багром в руке, которым он живо притянул нас вплотную к ступеням пристани. Это тоже промысел своего рода, которым бедняки набирают себе несколько десятков сантимов в день на стакан вина и кусок хлеба. Сеньор этот будет ждать нас до выхода из церкви, кликнет, когда нужно, гондольера, расположившегося, в ожидании своих пассажиров, отдыхать или завтракать, и опять поможет нам сесть в гондолу, как помогал сейчас выйти из нее» (Марков Е. Царица Адриатики. Из путешествия по европейскому югу. С. 260).
205
Де-Витт М. Воспоминания о Венеции // Сборник «Литературный путь» / Сост. под руков. препод. В. А. Зыкова. Умань, 1916. С. 8.
206
ИРЛИ. Ф. 376. Ед. хр. 217. Л. 11–12.
207
«Connais-tu le pays ou fleurit l’oranger». Воспоминания юной барышни, путешествовавшей по Италии. Публикация И. Л. Решетниковой // Встречи с прошлым. Вып. 11. М., 2011. С. 27.
208
Волжанин О. Венеция // Русская иллюстрация. 1915. № 18. С. 15.
209
Белый А. Путевые заметки. I. Венеция // Речь. 1911. № 24. 25 января. С. 3; Белый А. Офейра. Путевые заметки. Часть первая. М., <1921; на обл.: 1922>. С. 11–25; Белый А. Путевые заметки. 1. Сицилия и Тунис. М., 1922. С. 20–40.
210
Белый А. Офейра. Путевые заметки. Часть первая. М., <1921; на обл.: 1922>. С. 17–19.