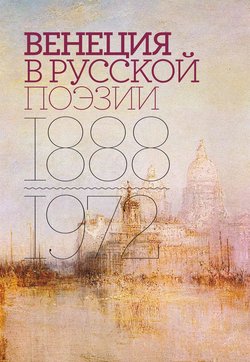Читать книгу Венеция в русской поэзии. Опыт антологии. 1888–1972 - Антология, Питер Хёг - Страница 24
Венеция: исторический путеводитель
23
ОглавлениеКлассическими предметами венецианского экспорта (если не считать воспоминаний) были кружева, изделия из мозаики, муранское стекло и – как ни странно это звучит – изделия из дерева[340]. Путеводители советовали покупать это в специализированных магазинах или на фабриках, причем список рекомендованных мест существенно отличался в разных источниках. Так, известный нам В. М. С. советовал приобретать мозаичные и стеклянные предметы в Compagnia de Vetri e Mosaici di Venezia e Murano на Большом канале, а кружева – в Jesurum на пьяцце, присовокупляя: «В аркадах прокураций, на Merceria и на Sallizada San Moisè множество магазинов, где можно покупать всякие безделушки, серебряные и золотые изделия. В Венеции принято торговаться, так как продавцы очень сильно запрашивают»[341]. Филиппов не называет адресов, ограничиваясь рекомендацией: «В магазинах следует торговаться, как и везде в Италии: хорошенькие венецианские безделушки из стеклянной мозаики, золотые ажурные вещи, деревянные изделия, зеркала и кружева. Любопытно посетить школу кружевниц, чтобы иметь понятие о работе знаменитых венецианских кружев (адрес в гостинице). Лучшая выставка их – у M. Jesurum»[342].
Ассортимент сувенирных лавок многократно, хотя и пренебрежительно вскользь, описывался путешественниками: «Преобладают магазины с венецианскими сувенирами для иностранцев. Раковины с видами лагуны и Дворца дожей, резьба по камню, лев. Св. Марка во всех видах, какие-то султаны из цветных бус… Как знакомо это все по бабушкиным сундукам и горкам в обветшалых „дворянских гнездах“…»[343]; «Магазины Венеции ярко освещены, имеют нарядный вид, но товары вообще грошевые и рассчитаны на туристов, наполняющих свои чемоданы сувенирами (безделушки из стекла, стеклянная мозаика, плохие кораллы, чаще поддельные, и открытки всех видов)»[344]; «Всюду в уличках было очень много магазинов с разными хрустальными безделушками, эстампами, гравюрами, открытками, кружевами, вышивками. Всюду в витринах то и дело мелькали виды собора св. Марка, Дворца дожей, Кампаниллы, крылатого льва св. Марка. В уличках стоял полумрак, только наверху небо светилось, голубело, как тонкая нежная эмаль»[345].
На более взыскательный вкус были рассчитаны антикварные магазины, также имеющие свою градацию – от лавок древностей до роскошных салонов. Искусствовед и коллекционер И. И. Лазаревский, в недобром 1939 году вспоминавший свои венецианские прогулки в письме к Э. Ф. Голлербаху, особенно отмечал: «Кое-где чернели ниши старьевщиков, где удачливому собирателю могло встретиться сокровище, немыслимое в лавках блестящих антикваров с мировыми или, во всяком случае, европейскими именами на площади Марка или где-либо в ином месте левой Венеции. Но на этот раз мои коллекционерские вожделения меня не тревожили и я не задерживался около первоисточников местного антикварного рынка»[346]. Профессиональные собиратели и антиквары предпринимали специальные экспедиции в поисках образцов местной живописи, порой наводя деловые контакты заранее – так, уже упоминавшийся М. С. Щекин задолго до визита писал постоянно живущему в Венеции П. Л. Вакселю:
Об одной пришедшей мне мысли я очень хотел бы Вашего совета. Конечно при первой же поездке в Италию я поеду в Венецию и буду искать там, но до того времени не было бы полезно условиться с Toppoli и Zanon, если эти антиквары представляются наиболее солидными, чтобы они присылали мне фотографии, хотя бы любительские, описания и цены более выдающихся и ценных вещей Trecento, которые впредь будут им попадаться[347].
Он же, добравшись наконец до предмета своих разысканий, рапортовал тому же Вакселю:
Мне очень хочется, памятуя Ваше разрешение, сообщить Вам о первых своих впечатлениях. По части картин-образов я еще начал только обход антикваров, ближайших к гостинице, но уже вижу, что выбор во всяком случае будет большой и кой на чем можно будет сойтись[348].
Редкая собирательская удача ждала в Венеции преуспевающего адвоката и коллекционера М. Ф. Ходасевича (брата поэта); подробности – в воспоминаниях его дочери:
Мы уже не впервые в Венеции. Я еще не взрослая, но позволяю себе в музеях кое-какие собственные суждения. Это нравится родителям, но иногда вызывает смех. Жара нестерпимая. Мама днем лежит в гостинице, а мы с отцом предпочитаем в самое пекло ходить по солнечной стороне. Папа говорит: «Запасемся теплом на зиму». Конечно, отец и в Венеции отыскивает антикваров, а в тот счастливый день мы набрели с ним на лавку барахольщика близ площади святого Марка, в каком-то закоулочке, около башни с часами.
Входим. Полутьма, пыльно. Я спрашиваю:
– Можно ли посмотреть?
– Prego (пожалуйста), – отвечает лениво пожилой толстый хозяин и продолжает сидеть в каком-то полусломанном необычайно роскошном кресле, обмахиваясь от жары и от мух сложенной веером газетой. Он мало заинтересован в нашем посещении. Отец рыскает взглядом по стенам и полкам. Я за отцом – хвостиком, тоже вижу, что ничего красивого нет. Отец говорит:
– Поддержи – вот тут у стены какие-то картины и доска. Давай посмотрим.
И вот отец добирается до доски примерно в аршин высоты и чуть меньше в ширину, ни зги не видно – пыль, из которой выступает серебряный почерневший вырезной оклад нимба, очерчивающий обычно голову святых, – он с рельефами, и кое-где вставлены камни. Отец заметно волнуется, становится спиной к хозяину, подгибает ногу, опирает икону на коленку, говорит мне резко:
– Поддержи, мне нужна рука, а я ведь на одной ноге… – и, освободив правую руку, плюет на палец и трет около оклада, что-то проясняется… вытаскивает из кармана носовой платок и говорит, подставляя его мне: – Плюй! – Видно, у него от волнения пересохло во рту.
Я плюю, и он еще протирает в другом месте, опускает ногу, я отпускаю доску. Отец, с равнодушным лицом поворачиваясь к спящему хозяину, говорит мне:
– Буди!
Я трясу толстяка боязливо за рукав, он, ошеломленный сном, моргает, потягивается и говорит:
– Se usi fa troppo coldo (Простите! Слишком жарко сегодня.)
Папа с равнодушнейшим видом говорит ему:
– Quato costa? (Сколько стоит?), – а мне: – Объясни, что эта черная доска нужна мне как доска, если недорого, то я ее куплю, – ведь не зря же ты изучала итальянский язык у «Данте Алигиери» (общество в Москве, где я начала изучать итальянский язык).
Не без труда я составила фразу. Хозяин хочет взять доску, папа ее цепко держит. Хозяин плюет на оклад, протирает выпуклость (что-то вроде ерундовского аметиста). Папа говорит:
– Пусть берет себе эти драгоценности – мне нужна доска. Делай вид, что уходим.
– Aspetta! (Подождите!) – И владелец лавки, к папиному изумлению, лениво называет какую-то очень маленькую сумму, объясняя, что вот если бы картины – другое дело, они денег стоят, а эту деревяшку берите, – наверное, в картинах вы не разбираетесь!..
Папа с просветленным от счастья лицом говорит:
– Кажется, что-то очень интересное попалось – идем скорее к маме хвастаться.
В гостинице отец сразу же стер с доски пыль и протер сырой ватой. Изнеможенная мама оживилась, привстала и ахнула – мы увидели прекрасный лик божьей матери, держащей на руках младенца Христа. И спокойствие и грусть выражало лицо мадонны (в натуральную величину). Скомпоновано с необычайным мастерством. В смысле цвета – трудно было разобраться. Помню, что фон оливково-зеленый. Все быстро «погасло», как только высохло. Вещь поразительная!
Вскоре надо было возвращаться в Москву. Заказали ящик, бережно уложили «Мадонну».
В Москве отец вызвал своих двух реставраторов, и они долго расчищали «Мадонну», которая засияла изумительной красотой и мастерством живописи. Фон весь был новоделом, а под ним блестело благороднейшего оттенка золото. Золотом же были написаны орнаменты на одеяниях.
К отцу начали приходить знатоки и коллекционеры икон. Сошлись на том, что «Мадонна» итало-греческого письма XIV–XV века и создана великим мастером. Многие предлагали отцу огромные деньги за эту вещь или обмен на любые картины из их коллекций, но отец благоговел перед красотой «Мадонны» и сказал, что он хочет, умирая, ее видеть. Так и было[349].
Регулярные успехи русских собирателей создали им особенную славу (впоследствии по известным причинам потускневшую): так, герой рассказа Немировича-Данченко, разыскивающий своего знакомца, оказывается в миланской антикварной лавке, где с трудом выдерживает осаду владельца:
– Я не покупаю картин.
– Значит, вы не любите искусства? Значит, вы…
– Не потому вовсе… А потому, что у меня нет денег для таких покупок.
– Эге… нет денег. – И он недоверчиво подмигнул мне глазами. – Как же это, чтобы у русского да не было денег? Где же виданы такие русские?… Ну, это уж знаете… Скажите уж просто, что вы у старика Луидже-де-Верме не хотите купить, ну я и удовольствуюсь этим. А то на-ко… Денег нет… Да вы знаете, что ни у кого нет столько денег, сколько у русских. Вот что, синьор, я вам могу и в долг поверить. Настоящий Гверчино…[350]
Как и в других туристических местах, существенная часть выставленных в антикварных лавках предметов представляла собой более или менее беззастенчивую подделку, зачастую изготовленную в непосредственной близости – не только хронологической, но и географической. Одно из такого рода производств наблюдал своими глазами Ю. Новоселов:
На пороге своей лавченки какой-то человек стучит молотком по странного вида кольчуге – это «мастерская древностей». Где-нибудь на площади Св. Марка в шикарном магазине изделия этой мастерской продаются как древние вещи, на которые так падки приезжие иностранцы, а тут неподалеку в переулке их приготовляют «деятели древностей», оглушая прохожих стуком своих молотков[351].
В тесной симфонии с продавцами сувениров действовали гиды или чичероне. Путеводители единогласно не советовали пользоваться их услугами («Проводникам (чичероне) отнюдь не следует доверяться. Они, впрочем, в Венеции совершенно бесполезны»[352]) или по крайней мере критически относиться к их рекомендациям («Гиды (guide, la guida) – получают 6–10 фр. (2 р. – 3 р. 50) в день. Только никогда не надо делать покупок или торговаться с их помощью, так как везде и всюду они выгадывают кое-что и в свою пользу»[353]). Один из самых распространенных венецианских сюжетов – о том, как гид обманом заводит клиента на фабрику, рассчитывая на комиссионные:
Нас порядочно раздосадовал, а вместе и насмешил своим не особенно хитрым плутовством один из праздношатающихся по площади св. Марка венецианских граждан. Подбежал он к нам перед самыми воротами св. Марка с предложением показать и объяснить подробно все замечательности собора, и хотя я вообще мало доверяю подобным добровольцам-чичероне, но, чтобы не отвлекать своего внимания постоянными справками с Бедекером, предоставил этому индивидууму вести нас в собор. Повертевшись немного в одном из приделов, гражданин сей заявил нам с серьезным видом, что сейчас начнется какая-то важная служба в центральном алтаре, почему неловко будет осматривать главный храм, а мы можем тем временем увидеть другие интересные вещи, куда он нас и поведет. Воображая, что он хочет показать нам со всех сторон наружность собора и какие-нибудь неизвестные мне боковые его капеллы и памятники, мы спокойно пошли за ним; но когда увидели, что он тащит нас по каким-то темным проходцам и переулочкам через канал, что омывает сзади собор и дворец Дожей, и через который перекинут знаменитый «Ponte dei Sospiri», «мост Вздохов», – соединяющий упраздненные старые темницы дворца с огромным мрачным зданием современной тюрьмы, – то я сообразил, что тут какая-то плутня, и стал кричать бежавшему впереди прыткому чичероне нашему – вернуться сейчас назад. Но лукавый итальянец удирал себе торопливее вперед, притворяясь, что не слышит; и не успели мы переступить через мостик канала, как очутились в распахнутых дверях большой фабрики венецианских хрусталей и мозаик сеньора Паули. Агент фабрики стоял уже на пороге и приглашал нас самым радушным образом осмотреть фабрику, всучивая нам билетики на вход; чичероне же наш, сдав таким ловким образом свою добычу с рук на руки агенту фабрики, которая его очевидно высылала для ловли иностранцев, – стушевался во мгновение ока, даже не пытаясь получить с нас что-нибудь за свое путеводительство, несомненно, оплаченное заранее фабрикою, так что мы нигде не могли найти его потом…[354]
Еще в большей степени пользовались таким методом привлечения клиентов фабрики стекла на Мурано, которые почти не могли рассчитывать на туристов, забредающих самотеком. Атаке муранского комиссионера подвергся уже хорошо известный нам артиллерийский офицер Нацвалов:
Утром 11-го ноября, только что вышел на площадь, как ко мне пристал молодой, высокий итальянец, уговаривая по-французски сейчас же поехать посмотреть музей, выставку и знаменитую стеклянную фабрику в Мурано (городок на острове). Он так был настойчив, что я согласился и, сев на пароходик, мы поехали по Большому каналу вниз к железнодорожной станции. Остановившись на одной пристани, мы высадились, направились пешком по узким улицам и переулкам и подошли, наконец, к большому дому. Войдя в него, я познакомился с директором стеклянной фабрики, очень красивым, полным брюнетом, средних лет, который любезно показал мне целый ряд комнат с выставленными на столах стеклянными произведениями фабрики в Мурано. <…> Не желая связываться с дорогим стеклом, чтобы не возиться с ним в дороге, взяв лишь прейскурант и поблагодарив директора, я поехал с проводником на пароходике же на остров Мурано. Через полчаса, прокатившись по тихим водам Адриатики, доставившей мне удовольствие, я увидел самый остров. Выйдя на берег, мы направились к фабрике. Войдя в нее, там, у горнила стеклоплавильной печи, кипела работа. Стекло плавили, брали его железными прутьями-щипцами, и, вертя ими, или отрезали часть, или же, придав ту или иную форму, опять клали в печь, а затем вновь придавали полужидкому, раскаленному докрасна стеклу – вдуванием или в особых формах – тот или другой вид, и – появлялись: кувшин, графин и т. п.[355]
Гораздо более устойчивым к агрессивному маркетингу оказался художник А. В. Лентулов:
Нам хотелось прокатиться на тот берег лагуны, где стоит монастырь Св. Георгия. Мы садимся в гондолу, предупрежденные, что гондольеры все как один, куда бы вы ни захотели ехать, считают долгом непременно завезти вас на фабрику венецианского стекла. Мне же до черта не хотелось ехать на эту фабрику, о чем я предупредил гондольера. Но увы, я уж вижу, что он едет не туда, и так и привез нас все-таки на фабрику. Тогда я тоже разупрямился и не вылез из гондолы, чем, очевидно, нанес и материальный, и моральный ущерб сему упрямому гондоловожатому. Он с досадой повернул обратно и повез не к Георгию, а назад в Пьяцетту, где мы сели. Самолюбие и гордость мои разыгрались до предела. Я чувствовал, что сей гондольер считает нас не лучшими из путешественников, т. е. англичан или американцев, которые не могли бы не оказать восхищения знаменитому стеклу. Но я, по правде говоря, к тому же видеть не могу подобного рода редкости и не привез с собой в Москву ни одной из этих пошлейших реликвий вроде Сан-Марко в сталактитовой скале и пр. мерзопакостей.
Выходя из гондолы, я не знал, чем бы изничтожить сего зарвавшегося мавра, и на скорую руку единственно мелькнула мысль попробовать пройти, не платя ему за проезд, т. к. он не выполнил нашего уговора. Но тут же вышел неожиданный камуфлет: сей мавр, сложив на груди довольно могучие руки, преграждая мне дорогу, заявляет по-французски: «Жё сюи венециано». Гордость и моя патриотическая спесь разыгрались до пределов. Тогда я тоже, сложив не менее могучие руки, довольно изрядно оттолкнув заградителя, к стыду своему, не знаю почему, отрекаюсь от своего отечества и заявляю: «Жё сюи англе». Эффект был неожиданным. Гондоловожатый вдруг, правда, деланно, но все же снимает свою широкую шляпу, размахнув ею широко. Тогда я, приняв позу лорда, бросаю ему лиру в эту шляпу, но кажется она в шляпу не попала, а покатилась по площади. До чего сильно развито раболепство мавров перед золотосумами-лордами[356].
Совсем другой человеческий и профессиональный тип представляла собой постоянно жившая в Италии группа русских гидов, обслуживавших учительские экскурсии в первой половине 1910‐х годов. Координировал их деятельность постоянно проживавший в Риме М. А. Осоргин[357]; за венецианскую часть экскурсий в разные годы были ответственными Б. А. Грифцов и В. И. Стражев (а в качестве руководителя группы приезжал А. М. Эфрос – «высокий бородатый брюнет с презрительными глазами и высоким, матовым лбом», по словам одной из экскурсанток[358]). Летом 1910 года они встретились в Венеции, после чего Стражев там остался, а Грифцов уехал – и слал письма, звучавшие все горше по мере удаления от Адриатики: «Милый Венецианец. Сколь это ни странно, но, пожалуй, в Венеции жилось лучше, здесь много великолепнее, но тишина и черные платки незабвенны. Но как чудесна была Феррара! Но, конечно, из Флоренции никак не уедешь и думать не хочется, хотя доигрываемся во всякие лотереи. Про экскурсантов здесь говорят: они очарованы в Венеции Стражевым! С успехом! Хотя четвертые едва ли лучше третьих. Привет тебе и Венеции. Б. Грифцов»[359]; «Наши ясные дни так скоро кончились. О что за ужас возвращаться в Россию. Здесь так холодно, такой моросит дождь. Можно ли в один месяц так отравиться! О коварная Италия!»[360]
На следующий год Стражев вернулся в Москву, а его в Венеции сменил Грифцов, делившийся своими педагогическими впечатлениями:
Вчера проводили вторую группу. <…> Время отнимают они, в сущности, все решительно, спрашивают, где клозет, закуривают в Академии, но даже в этих весьма тяжелых группах можно было кое-кого выловить. А, в сущности, здесь может быть совершенно все равно, кого вылавливать, с кем кататься и шататься. Дни идут, от них ничего не остается, никакого следа. Быть может, так и следует существовать на свете. И чем больше привыкаешь к Венеции, тем она все-таки становится необычнее и себя узнаешь и чувствуешь все меньше и меньше. За возможность прожить здесь можно еще много больше всяких лекций прочитать, только бы в минуту свободную выйти на пьяцетту и чтобы было рядом Pal<azzo> Duc<ale>. Правда, все складывается так странно, что где жить важнее, чем с кем, и чем что делать. Делать, наверное, ничего не придется, а вот только легко скользить. Есть, конечно, во всем этом и какая-то доля крайнего отчаяния. Но и в таком случае в Венеции лучше, ты, конечно, прав: „и для тех она и для других“. Вот только бы выиграть кое-что и подольше не думать о Москве. – Сейчас заходит солнце, стрижи носятся, пойду поискать еще какие-нибудь неизвестные уголки[361].
Уровень знаний обоих экскурсоводов был беспрецедентен для представителей этой профессии (и, увы, намного превышал перцептивный потенциал их обычной аудитории), так что свидетель мог с полным основанием сказать: «<…> на местах экскурсанты находят готовые квартиры, заботливый стол – все не слишком роскошно, но вполне достаточно, чтобы облегчить главную задачу: знакомство с тем, что может дать Италия. В этом же последнем отношении русские экскурсии поставлены в совершенно исключительные условия. Они обладают тем, чего лишены участники самых фешенебельных экскурсий англичан или немцев. Вместо бесстрастных и формальных „гидов“ – их направляют сведущие люди и подлинные художники. „Руководители“ русских экскурсантов – в большинстве знающие и талантливые люди – с истинно русской безудержностью отдаются своему трудному делу»[362].
340
Ср., кстати, неожиданное замечание Брюсова: «Венеция бедна, и как могло быть иначе! Это город-паразит, без настоящей жизни, без будущего. В былые века ее положение в лагуне давало ей стратегическое и через то торговое значение. При современной технике войны и при современном политическом строе она – ничто. Жизнь и торговля отхлынули от нее. Венеция производит только ненужные вещи: художественное стекло, мозаику, кружева, мелкие articles de Venise, которые покупаются на память. Предметы первой необходимости, мясо, овощи, плоды, ткани, металлические изделия – все привозное» (Брюсов В. Венеция (От нашего корреспондента) // Русский листок. 1902. № 169. 23 июня. С. 3 (подп.: Аврелий)).
341
В. М. С. Первая экскурсия в Италию с маршрутом на 28 дней, записью практических сведений и дорожным словарем. C. 277.
342
Западная Европа. Спутник туриста под редакцией С. Н. Филиппова. 4-е издание. С. 87–88.
343
Ширяев Б. Ди-Пи в Италии. Записки продавца кукол. СПб., 2007. С. 39.
344
Экскурсант. Бегом по Западной Европе (Путевые впечатления) // Русские учителя за границей. Год первый. М., 1910. С. 132.
345
Волжанин О. Венеция // Русская иллюстрация. 1915. № 18. С. 16. Ср., кстати, появление венецианских сувениров в прозе Белого: «Аполлон Аполлонович распахнул быстро дверь, опираясь рукой на хрустальную, граненую ручку; по блистающим плитам паркетиков застучал его шаг; отовсюду бросились горки фарфоровых безделушечек; безделушечки эти вывезли они из Венеции, он и Анна Петровна, тому назад – тридцать лет. Воспоминания о туманной лагуне, гондоле и арии, рыдающей в отдалении, промелькнули некстати так в сенаторской голове…» (Белый А. Петербург. М., 1981. С. 16).
346
Письмо от 14 июня 1939 г. – Э. Ф. Голлербах и И. И. Лазаревский. Из переписки 1930‐х годов. Публ. О. С. Острой и Л. И. Юниверга // Минувшее. Т. 16. М.; СПб., 1994. С. 385.
347
Письмо от 1 июня 1905 г. // РНБ. Ф. 123. Ед. хр. 474. Л. 13.
348
Письмо от 1/14 июня 1906 г. // Там же. Л. 72.
349
Ходасевич В. Портреты словами. М., 1987. С. 54–56.
350
Немирович-Данченко В. И. Волны. <М., 1907.> С. 203–204.
351
Новоселов Ю. Венеция. <СПб., 1907.> С. 14.
352
Западная Европа. Спутник туриста под редакцией С. Н. Филиппова. 4-е изд. С. 88. Немирович-Данченко особо отмечал, что любого туриста с томиком Бедекера в руках итальянский гид считал своей законной добычей: «Вас уже заметили, уже увидели в руках ваших красную книжку самые злейшие враги путешественника – гиды. Со всех сторон они несутся к вам – и в шапках с золотой надписью: „гид для туристов“, и в обыкновенных шляпах» (Немирович-Данченко В. Лазурный край. СПб., 1896. С. 91).
353
Жданов Л. Г. Русский в Италии. С. 45.
354
Марков Е. Царица Адриатики. Из путешествия по европейскому югу. С. 257–258.
355
Нацвалов Л. Рассказ о моем первом заграничном путешествии. Тифлис, 1916. С. 84–85.
356
Лентулов А. Воспоминания. СПб., 2014. С. 88–89.
357
Ср. в его мемуарах, при воспоминании о римском кабачке, бывшем штаб-квартирой русских экскурсантов: «В последние годы моей итальянской жизни в кабачке обедали в летние месяцы русские народные учителя, приезжавшие группами по пятьдесят человек; обычно сталкивались здесь сразу две группы, было весело, суетливо, нелепо – кусок России под виноградным навесом. Это были мои дети, их проехало через Рим и другие города Италии три тысячи; мои помощники читали им лекции и показывали музеи, на мне лежала работа организаторская, трудная и отрадная» (Осоргин М. Времена. Происшествия зеленого мира. М., 2005. С. 119).
358
Серпинская Н. Флирт с жизнью. М., 2003. С. 68.
359
Письмо Б. Грифцова к В. Стражеву из Флоренции от 2 июля 1910 г. // РГАЛИ. Ф. 1647. Оп. 1. Ед. хр. 310. Л. 4. Контекст и подробности этой переписки см. также на с. 950–959 наст. изд.
360
Июльское (1910 г.) письмо Б. Грифцова к В. Стражеву из Москвы // РГАЛИ. Ф. 1647. Оп. 1. Ед. хр. 310. Л. 5.
361
Письмо Б. Грифцова к В. Стражеву от 12 июня 1911 г. // РГАЛИ. Ф. 1647. Оп. 1. Ед. хр. 310. Л. 7–8. Ср., впрочем, наблюдение случайного встречного: «В Венеции остановились в маленьком, паршивеньком ресторане, но очень симпатичном. Встретили тут экскурсию русских, и ее руководитель – Грифцов с женой; они очень нам обрадовались. Они все время тут сидят, и им очень скучно. Смотрели в Венеции, главным образом, Тинторетто; ужасно интересно, тем более что раньше на него не обращали внимания. Кроме того, было празднество: фейерверки, масса лодок, пение, мандолины; была луна, но ее за светом и дымом не было видно. В городе много иностранцев, и все ведут себя по-разному: англичане важно и аристократично, немцы важно и грубо, а русские – как должно, и к ним относятся хорошо. Видели здесь серьезных, с животиками, в ситцевых кофточках русских учительниц; на все смотрят и ахают» (письмо В. Фаворского к родителям от 28 июня 1911 г. // В. А. Фаворский. Воспоминания современников. Письма художника. Стенограммы выступлений. М., 1991. С. 105).
362
К. В. <Осоргин М. О.> Русские экскурсанты в Италии // Русские ведомости. 1914. № 181. 8 августа. С. 5. Ср., впрочем, не слишком добродушное изображение русской лекции во Дворце дожей: «Итак, милостивые государи и милостивые государыни, – громко гудит сочный московский голос, – Венеция, так сказать, в продолжение, так сказать, многих веков, так сказать, накопляла… <…> Это была экскурсия русских учительниц!» (Тэффи. Заметки путевые и непутевые. СПб., 1912. С. 29–30).