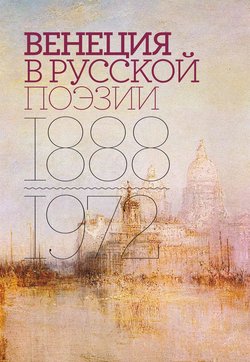Читать книгу Венеция в русской поэзии. Опыт антологии. 1888–1972 - Антология, Питер Хёг - Страница 26
Венеция: исторический путеводитель
25
ОглавлениеПосле подъема на Кампанилу (а иногда и вместо него) шли обычно в Дворец дожей. Для путешественника рубежа веков своеобразие его архитектуры наводило на мысль, что здание перевернуто по сравнению с первоначальным замыслом: эта метафора (кажется, с трудом могущая прийти в голову нашему современнику) встречается в записках нескольких заведомо независимых друг от друга лиц: «Нельзя не изумляться смелости или наивности замысла мавританского здания Палаццо дожей, поставленного верхом вниз»[389]; «Что за диковинная необычная постройка! Два нижних этажа состоят из легких колоннад, а над ними высится тяжелый верхний этаж, редко прорезанный большими окнами. Точно дворец поставлен вверх фундаментом»[390].
Андрею Белому, напротив, архитектура дворца показалась естественной в ее соответствии эпохе, месту и окружению:
Легкость и грация стрельчатых арок, широко летающих кружевом готики, как-то особенно здесь сочетается с воздухом; всюду розетты над мрамором пышных колонн; а цветки темноватых снаружу <sic> и ярких внутри изощренных витражей вырезывают двенадцатилистия, десятилистия в розовом, в темно-потухшем, в чернотном иль в белом источенном камне стены; дворец дожей таков; бледнорозовый он; он сквозной галлереей стоит и пленяет сквозными розеттами; расстояние окон и плоскости, точно слепые меж ними, и форма (массивный, положенный каменный куб) – все пленительно в нем; этот «стиль» не придумаешь; вырос, как дерево, он в том месте, в веках; и пленительно прорези там кружевеют над дугами арок; и две галлереи – одна над другою; изысканны вырезы острых зубцов верхних стен[391].
Из непременных венецианских экскурсий эта была самой протяженной – полный осмотр включал два этажа, балкон (с классическим видом) и внутренний двор, но опытные путешественники настойчиво советовали не растворяться в деталях:
Не останавливайтесь подробно на этих картинах, – это невозможно и это бесполезно. Тинторетто, Павел Веронез, Марк Вечелли, Пальма Младший, Бассано и другие венецианские художники шестнадцатого столетия, расписавшие эти залы после большого пожара, истребившего прежние украшения дворца, стремились возвеличить родную республику, увековечив на этих стенах и сводах все выдающиеся моменты ее истории, портреты всех ее замечательных деятелей, и эта официальная живопись их, преследовавшая не столько художественные, сколько патриотические цели, дорога главным образом исследователям былой венецианской жизни и мало интересна в своих подробностях для любителей чистого художества. <…> Гораздо разумнее смотреть на эти расписанные потолки и стены, не вникая в частности, свободным общим взглядом, как на роскошную художественную декорацию исторического дворца, нераздельную с его архитектурными линиями, с его бронзами, позолотою и мраморами, – и тогда вы действительно вынесете полное и цельное впечатление от этого характерного места жительства старых владык Венеции, еще вполне сохранившего в названиях своих зал воспоминания о протекшей роли их[392].
Маршрут по Палаццо дукале включал в себя проход по Мосту вздохов и посещение тюрьмы, оставлявшей обычно глубокий след в душе зрителя: «Осматривал темницы; они сыры, темны и полны ужаса; там видны следы орудий пыток»[393]; «Тюрьма – это нечто ужасное. Камеры для одиночного заключения без окон. Особенно ужасна тюрьма, где был заключен Марино Фальери, место, где была гильотина, три отверстия, через которые текла кровь казненных в канал, где стоял народ и смотрел на это»[394].
Впрочем, один из венецианских визитеров 1950‐х годов, обладавший обширным тюремным опытом, полученным до 1917 года (и чудом избежавший сопоставительных практических занятий в 1930‐х), отнесся к увиденному не без скепсиса:
Вот и знаменитая тюрьма. Камеры верхнего этажа довольно просторны. Стены поражают циклопической кладкой. Два окна. Одно «на волю», другое в коридор. Решетки редкие с перекладинами в детскую руку толщиной. Очень толстые обитые железом двери, чудовищные задвижки и еще более чудовищные замки, очень примитивной конструкции. Такой замок без труда откроет каждый фабричный ученик. Признаюсь, что я был разочарован: какое же это средневековье, коли я при царе сидел в камере во сто раз худшей. Спустились пониже. Там помрачнее – вроде нашего Шлиссельбурга. Спустились еще ниже и вошли в узенький коридорчик, со стен которого стекала струйками вода. По ступенькам мы уходили все глубже и глубже, причем становилось все темнее и темнее. Замигала тусклая электрическая лампочка, освещая туристам сводчатый коридорчик. У кого-то вырвался «ох». Я почувствовал, как все туристы стали жаться друг к другу… По бокам коридорчика – камеры гробы. Маленькие, без окон, лишь с пробитым для бросания хлеба маленьким отверстием. Я попробовал просунуть руку и она ушла до плеча пока я достиг внутренней стороны кладки. Внутри сырость и плесень. Посредине каменный низкий столб, в который вделано железное кольцо. В стенах также железные кольца. Врага плутократии после суда в зале трех запирали в такой каменный гроб, приковывали к кольцу и он мог либо сидеть на столбе либо лежать около него. После дьявольских пыток несчастного уничтожали и труп его бросали в канал. Тут, наконец, я почувствовал настоящее дыхание средневековья[395].
В начале ХХ века для посещения была открыта лишь небольшая историческая часть тюрьмы – остальное же здание продолжало выполнять свои пенитенциарные функции. В 1910‐е годы среди тамошних узников находились двое, поневоле входившие в круг специфических русских достопримечательностей, что на своем опыте (и, кажется, без охоты) почувствовали участники учительской экскурсии: «В Венеции, едва лишь только узнавали о нашей национальности, как считали необходимым тотчас же показать нам тюрьму, где находятся Наумов и Прилуков и которая расположена в самой главной части города, рядом с палаццо дожей»[396].
Речь идет о фигурантах знаменитого уголовного дела Марии Тарновской – киевской авантюристки, заставившей влюбленного в нее графа П. Е. Комаровского застраховать жизнь в ее пользу, после чего организовавшей его убийство. Непосредственным исполнителем был юный Н. А. Наумов; общим руководителем – московский адвокат Д. Д. Прилуков: оба действовали скорее по зову сердца, нежели из расчета. Судебный процесс, на котором обвинялись Тарновская, ее горничная, Прилуков и Наумов, сделался одним из главных событий 1910 года – сочетание фабулы и декораций обеспечили ему беспрецедентную прессу (кстати, среди корреспондентов, освещавших его для российских газет, был и знакомый нам М. А. Осоргин). Только в этом же году и лишь на русском языке вышло пять книг, посвященных этому сюжету[397]. Сама авантюристка – «змея, голубка, кошечка, романтик» (по восторженному выражению Северянина[398]) была приговорена к восьми годам, Наумов – к трем, Прилуков – к десяти; она отбывала срок в женской тюрьме на Джудекке[399], а ее сообщники – в непосредственной близости от Дворца дожей, по соседству с тенью Казановы[400].
389
Лентулов А. Воспоминания. СПб., 2014. С. 87.
390
Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические записки. М., 2003. С. 297.
391
Белый А. Офейра. Путевые заметки. Ч. 1. С. 20.
392
Марков Е. Царица Адриатики. Из путешествия по европейскому югу. С. 247.
393
Донской И. Н. Стихотворения. Рассказы. Дневник туриста. СПб., 1905. С. 140.
394
Письмо М. В. Нестерова к родным от 19/31 мая 1889 г. // Нестеров М. В. Из писем. Л., 1968. С. 24.
395
<Антонов-Саратовский В. П. Венеция> // ГАРФ. Ф. 7474. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 22–23. Характеристику этого незаурядного источника см. на с. 167.
396
Евг. П-к. Поездка в Италию // Русские учителя за границей. Год второй. М., 1911. С. 255.
397
Евлев Л. Дело Тарновской. Одесса, 1910; Крамская Н. В. Роковая женщина. М., 1910; Сорокин В. А. Преступница ли Тарновская? Одесса, 1910; Современная Клеопатра. Сенсационный роман. Вып. 1–10. М., 1910; Похождения знаменитой авантюристки Марии Тарновской или Женщина-дьявол. Вып. 1–10. Одесса, 1910.
398
Северянин И. Трагедия Титана. Берлин, 1923. С. 81.
399
Серпинская вспоминала впечатление, которое самая знаменитая заключенная Венеции производила на интервьюеров: «За ночь мы обрастали иностранными журналистами, приехавшими в то лето для интервью к знаменитой, настоящей мадам Тарновской, отбывающей наказание в венецианской тюрьме, артистами, скучающими туристами. Бесконечные „1001 кушанье“ в 1001 ресторане всего мира, которые описывал Немирович со вкусом и гурманством подлинного любителя, сменялись романтическими восторгами журналистов от свиданий с Тарновской: „Это роковая женщина. Она вышла после трех лет заключения – элегантная, вся в черном, величественная, как королева, tres distingue <очень утонченная>, ни слова жалобы на свою судьбу. ‚Любовь – это трагедия‘, – сказала она нам и подарила карточки с автографом. О, за такую женщину – не жаль отдать жизнь“.
Они показывали портрет действительно красивой, высокой женщины. Я была совсем миниатюрной сравнительно с ней, но американцы и итальянцы считали всех интересных русских женщин похожими на m-me Тарновскую» (Серпинская Н. Флирт с жизнью. М., 2003. С. 73).
400
О дальнейшей судьбе осужденных рассказано в воспоминаниях аргентинской гражданки Н. Д. Бахаревой (между прочим – внучки Н. С. Лескова), представлявшей на процессе газету «Петербургский листок» и с тех пор внимательно приглядывавшей за их судьбами: «Первым вышел из тюрьмы Н. А. Наумов. Он возвратился в Россию больной чахоткой, от которой и скончался.
Вспыхнувшая в 1914 г. Первая мировая война освободила из тюрьмы Прилукова. Во время февральской революции он возвратился в Россию. Дальнейшая его судьба мне неизвестна.
Лучше всех отделалась сама Тарновская. Она отбывала наказание не в тюрьме, а в женском монастыре в Апулии, где исполняла секретарские обязанности и играла на органе. Своим примерным поведением, ровным и приветливым характером она завоевала симпатии всех монахинь монастыря. Амнистированная по случаю первой мировой войны, Тарновская возвратилась в Россию. Я встретила ее в 1917 г. на Кавказе, где она была вместе со своей камеристкой Перье. Перед большевистским переворотом М. Н. Тарновская уехала из России в Париж, где работала в ателье дамских туалетов.
Умерла она во Франции в 1932 г. 58 лет» (цит. по: Орем С. Золотая пыль // НРС. 1954. № 15 398. 24 июня. С. 3).