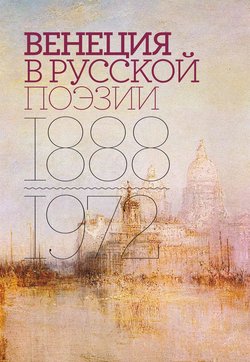Читать книгу Венеция в русской поэзии. Опыт антологии. 1888–1972 - Антология, Питер Хёг - Страница 39
Венеция: исторический путеводитель
38
ОглавлениеНачиная с середины 1950‐х годов разорванные научные и культурные связи с заграницей неуклонно восстанавливались, о чем можно судить даже по сухой статистике: так, в 1956 году из СССР в Италию было отправлено 180 туристов; на 1957 год запланировано 200, а выпущено 228 и т. д.[515] Конечно, подавляющее большинство путешественников не оставляло воспоминаний, заметок и иных вещественных свидетельств, но некоторые из визитов оказались документированы. Так, искусствоведы В. Н. Лазарев и Д. В. Сарабьянов, посетив в 1955 году конгресс по византиноведению в Стамбуле, отправились оттуда в Венецию на выставку «Джорджоне и джорджонески»; в печатном отчете несколько слов было посвящено и впечатлениям от города: «Нам очень повезло с погодой – стояли чудные солнечные дни, позволяющие в полной мере наслаждаться красотами Венеции. Солнечные лучи делали особенно прекрасными нежные оттенки разноцветных мраморов, которыми облицованы фасады зданий, яркие, как драгоценные каменья, краски ранних венецианских картин, золотистые и серебристые тона палитры Тициана и Веронезе. Покидая Венецию, этот подлинный город-музей, навсегда уносишь воспоминание о чем-то радостном и светлом»[516].
С 1956 года Советский Союз возобновил участие в венецианских биеннале: первый советский павильон после перерыва организовывал В. Прокофьев. Дневниковые записи и впечатления, накопленные им за полугодовую командировку в Италию (он также курировал советские экспозиции на Международной промышленной выставке в Милане и Флорентийской выставке кустарно-художественных изделий), легли в основу обширного труда, представляющего собой довольно схоластический опыт путеводителя по стране, принципиально недоступной для читателя[517]. В немалочисленных отчетах посетителей и участников биеннале 1956 года царит известный дуализм: каждому из авторов требовалось проскользнуть между требованиями цензуры, правилами вежливости и здоровой чуткостью на порицаемый авангард. Так, В. С. Иванов, плодовитый плакатист, лауреат двух Сталинских премий, был прямолинеен:
Осенью прошлого года мне с группой советских туристов довелось побывать в Италии. Не буду описывать то незабываемое и чудесное чувство эстетической радости и наслаждения, которое испытываешь при встрече с давно знакомыми по репродукциям шедеврами мировой живописи, скульптуры и архитектуры. <…> На первых порах ничего не предвещало разочарования. Выставка оказалась расположенной на территории великолепного тенистого парка, где вдали друг от друга раскинулись павильоны отдельных стран. Зелень в Венеции – большая редкость, и в жаркий день она была вдвойне желанной. Однако в парке мы не заметили людей. Кругом было тихо и пустынно…
Так началось наше знакомство с современным буржуазным искусством[518].
Далее автор подробно и недружелюбно описывает особенно раздражающие произведения, сопровождая свою критику не репродукциями их (чтобы не осквернить приютившие его страницы), но собственноручными шаржированными набросками, выполненными в походном блокноте (что, в свою очередь, приводит на ум старинный анекдот о Карузо, известном протагонисту через посредника). Галерею копий открывает скульптура Линна Чедвика, завоевавшая высший приз: «Вот нашумевшее „Внутреннее око“ <…> „Око“ получило наивысшую оценку жюри выставки. Не будь этого обстоятельства, его можно было бы и не заметить – бессмысленное металлическое сооружение грубой кузнечной выделки. Но высокая оценка заставила остановиться и пристально осмотреть это „чудо“ двадцатого века. Оказалось, что им не только можно „любоваться“, но и… поиграть: если толкнуть пальцем, то полупрозрачное „око“ и какая-то кривая лесенка крутятся!» [519]
Менее непосредственным был отзыв входившего в советскую делегацию Б. Иогансона. Ритуально исполнив обязанности, диктуемые учтивостью («Ослепительно яркое для наших северных глаз солнце с расточительной щедростью заливает Венецию своими лучами, подчеркивает пышную красоту ее дворцов, храмов, вычурных горбатых мостов»[520]), вице-президент Академии художеств переходит к художественной критике:
Но уже первые расставленные в парке уродливые изваяния заставляют поморщиться. Невольно убыстряя шаг, мы торопимся в залы Центрального дворца, занятые экспонатами Италии и некоторых стран, не имеющих собственных павильонов. Проходим один, другой, третий, пятый, десятый, двадцатый залы, переходим в национальные павильоны… Чувство досады не исчезает. В большинстве залов преобладают произведения, которые трудно назвать картинами, и предметы, которые лишь условно можно назвать скульптурой[521].
В 1957 году в Италию отправилась крупная группа советских писателей – Микола Бажан, Вера Инбер, Александр Твардовский, Николай Заболоцкий, Михаил Исаковский, Леонид Мартынов, Александр Прокофьев, Борис Слуцкий, Сергей Смирнов; благодаря счастливому стечению обстоятельств ее маршрут и детали путешествия документированы с исключительными подробностями. Жили они в не встречавшемся нам до этого отеле Albergo patria tre rose и пробыли в Венеции всего два дня[522].
В 1958 году в Венеции проводилось заседание Европейского общества культуры; советская делегация состояла из четырех участников – М. Алпатова, К. Федина, Б. Полевого и неочевидного Володина – как минимум двое из них оставили воспоминания об этой поездке. Некоторый (вряд ли, впрочем, сознательный) намек на восстановление прервавшихся традиций чувствовался в том, что гостей поселили в отеле Luna, спокойно выдержавшем чуть не полувековую разлуку с русской речью:
Венеция нас встретила замарашкой. Моросил мелкий дождь, ветер бил в лицо. Мы увидали город как бы в черновом чертеже, лишенным всякого красочного очарования. И все же, когда мы очутились на катере и он двинулся прямо по залитой водой улице среди вереницы дворцов и домов, которые потянулись за нами, – это было удивительно.
К решеткам хлынули каналы —
И всплыл Петрополь, как тритон,
По пояс в воду погружен…
Нам отвели комнаты в старинном здании отеля «Луна». Мраморная доска на стене возвещала, что здесь проживал немецкий живописец Фейербах (и это лишний раз напомнило нам о том, что мы до сих пор не позаботились об увековечении памяти нашего великого Иванова).
Окна наших комнат выходили на тесную улочку, по камням которой звонко отдавались каблуки редких прохожих. В нишах напротив окон тихо ворковали голуби – в дождливые дни им нечего было делать на площади Св. Марка[523].
Некоторые подробности поездки выясняются из травелога Б. Полевого, написанного сразу по возвращении в Москву:
Поезд из Австрии подходил к городу по неширокой дамбе, и издали показалось, что тут случилось невиданной силы половодье: закопченные здания окраин поднимались прямо из воды, и вода плескалась у самых стен. Потом мы вышли из большого красивого вокзала и тут же убедились, что никакого половодья нет. Широкая лестница спускалась к воде, волны омывали нижние ее ступени. Как троллейбусы, деловито и буднично двигались по каналу маршрутные катера. Точно такси, толпились у причалов на специальных стоянках черные гондолы, красиво выгибая тонкие лебединые шеи. <…>
Расторопные продавцы бойко продавали туристам открытки с видами, пестрые бусы, изготовлением которых славятся местные мастера-кустари, пакетики с кукурузой, которые тут приобретают для кормления голубей. Загорелые женщины из пригородов с грубыми, обветренными лицами выгружали из гондолы на берег большие корзины с букетиками белых и синих подснежников[524].
Следуя классическому канону, Полевой особенное внимание уделяет непарадной Венеции, скрытой от менее проницательного туриста за глянцевым фасадом. Отдельно его сочувствием пользовались рыбаки, описание безрадостной жизни которых занимает добрую половину очерка:
Вообще венецианскому рыбаку не до красивых парусов. Все его имущество – это лодка, которую он унаследовал иногда даже не от отца, а от деда. В ней он и живет вместе с женой и старшими детьми, оставив младших на попечении стариков где-нибудь в хижине на отдаленном острове. Здесь же, вернувшись с лова, заведя лодку в один из окраинных каналов, причалив где-нибудь под мостом, рыбак готовит себе пищу. Это густо сваренная кукурузная каша, кусок хлеба, иногда бутылка вина да две-три рыбки похуже, отобранные из улова. Даже в самые удачные годы рыбаку едва хватает денег, чтобы расплатиться с долгами, починить суденышко, подлатать парус, пополнить снасть. Но венецианский рыбак не унывает[525].
Далее следует опущенная нами (по недостатку места) сцена совместного возлияния советского писателя-орденоносца и неунывающего рыбака – вино из «заветной бутылочки, оплетенной соломкой», алюминиевые кружки.
За полгода до этого поблизости от того же причала дегустировала блюда местной кухни писательница З. А. Гусева, работающая в смежном жанре советской агиографии («Светлый путь работницы», «Партизан Владимир» etc):
Цены на продовольствие в Венеции значительно выше, чем в других городах. На рынке возле Большого канала мы видели, как, отсчитав лиры, женщины бережно клали в корзины каких-то покрытых зеленоватой слизью каракатиц, водянистых скользких осьминогов, что-то вроде задних лап лягушек, рогатых, хвостатых моллюсков – все, что здесь красиво именуется «фрутти ди маре» – плоды моря. Когда их подавали в ресторане красиво подготовленными, они не показались нам вкусными. Итальянцы же ели их с аппетитом и несколько разочарованно смотрели на наши сомневающиеся лица[526].
Описание ее венецианских дней, в общем вполне традиционное (если вычесть экзальтированную реакцию на внутреннее убранство отеля: «Глянешь на стены – и оторопь берет. В приемной, залах, коридорах, на лестничных клетках и в комнатах – всюду развешены картины современных художников-абстракционистов»[527]), заканчивается довольно необычной, но весьма художественной кодой:
У причала нас ждала группа портовых грузчиков. Они подбежали к нам и, протягивая руки, помогли вылезти из гондол, потом окружили нас, стали показывать свежие номера газет.
Один, вероятно, не зная, как лучше выразить свои чувства, хлопал меня по плечу, а потом поднимал руку и показывал на небо, где несся наш первый спутник. Другой держал развернутую газету «Унита» и, улыбаясь, кивая головой в знак согласия, показывал пальцем то место, где было написано: «Мы испытываем великую, чистую и полную радость оттого, что к этому историческому этапу человечества страна социализма подошла первой…»[528]
515
Орлов И. Б., Попов А. Д. Сквозь «железный занавес». М., 2016. С. 331.
516
Лазарев В. Стамбул – Венеция // Новое время. 1956. № 5. С. 24.
517
Прокофьев В. По Италии. М., 1960.
518
Иванов В. Абстракционизм и прочее… // Творчество. 1957. № 1. С. 22.
519
Там же.
520
Иогансон Б. Венецианская биеннале // Новое время. 1956. № 34. С. 22.
521
Там же.
522
Подробности этой поездки изложены нами на с. 659–665 наст. изд.
523
Алпатов М. Воспоминания. М., 1994. С. 153.
524
Полевой Б. Венеция – город тружеников // Огонек. 1956. № 26. С. 23.
525
Полевой Б. Венеция – город тружеников // Огонек. 1956. № 26. С. 23.
526
Гусева З. Венеция (из записной книжки туриста) // Вокруг света. 1958. № 8. С. 35–36.
527
Там же. С. 33.
528
Там же. С. 37. Впечатления от ее довольно продолжительного путешествия были собраны в книге: Гусева З. Итальянский дневник. М., 1958.