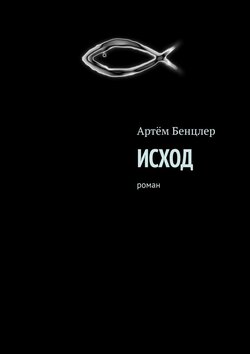Читать книгу Исход. Роман - Артём Бенцлер - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление*
Как я вообще стал священником? Воспоминания подобного рода неизменно пробуждают во мне тягу к сентиментальности изложения, рождая уродливые тяжеловесные конструкции и устаревший стиль письма, коим уже никто в здравом уме и не пользуется, прошу простить великодушно – это данность ушедшей эпохе и ничего более. Мир с каждой секундой становится проще, он требует от нас внятности, глагольности вместо описаний, экономии чужого времени, сосредоточенности и компактности. Мысль не должна растекаться по древу, читатель ждёт от текста сжатый концентрат, но тут я пас. Кто не выдержит – увольте от своего присутствия. Уповаю на то, что записки сии не представляют ни для кого никакой ценности и интереса и не будут являться предметом для подробного всестороннего изучения. Мне лишь хочется, это прерогатива осознанной неизбежной кончины, парить по небесам своей памяти, прыгая с одного облачка на другое, и воображать себя древним ископателем истины, аргонавтом, архаичным охотником за словом. Прекрасно понимаю, что так уж нынче никто не выражается, да и я сам в обычной, не книжной жизни, так не выражаюсь, уж поверьте, но тот мрак, что остался в далёком прошлом (а таком уж и далёком?) непременно сеет в моём сердце тревогу, каждый божий раз по новой, когда я возвращаюсь к анализу былого и своих помыслов, и уста мои, а за ними и пальцы, отбивающие похоронную дробь на покалеченной клавиатуре ноутбука или треснутом экране планшета, помимо моей воли складывают песнь по ушедшему в архитектонику бесструктурного театрального действа, вдавленного то в эпистолярность жанра, то в подобие стариковских заметок на полях, искажённая мемуарность которых всегда под вопросом: а было ли это или мне просто так казалось? Что ж, бросаю на суд немногочисленной общественности свой громоздкий синтаксис и витиеватую сумбурную речь, ибо только так и могу поведать о себе, об Артуре, который пишет сейчас всё это под покровом ночи, зарывшись в колючий плед воспоминаний, предпочитая оказаться в тихой гавани, на островке спокойствия, где водная гладь ласкает его берега, а на самом деле находясь в мире, где реклама – это основной вид коммуникации между индивидами, а статусы в социальных сетях заменяют нам нравственность.
Сколько себя помню, я всегда отличался от других людей. Ещё в детстве, а потом укрепившись в этом и в юности, я видел внутри себя только лишь мрак, отчаяние и безысходность. Во мне напрочь отсутствовала так называемая воля к жизни. И лишь где-то там, на задворках сознания рос её слабенький хилый росток, заставлявший меня дышать, принимать пищу, двигаться и испражняться, не позволявший мне окончательно скатиться в тартарары беспросветного уныния и угрюмой обречённости. Я рос смышленым малым, много читал, познавая окружающий мир через увеличительное стекло книжных сентенций и неизменных истин великих мира сего. Я был влюблён в туманное прошлое, славное и непременно героическое, покрытое печальным флёром невозвратности, запорошенное сетью седых паутин и неразгаданных тайн бытия. Каково это быть Ницше? А Шопенгауэром? Так же они страдали, как страдаю я или нет? И кто из нас страдал больше?
Становясь старше на год, с каждой новой зарубкой на плахе моего вялого жалкого существования, мучительно медленно приближающей меня к конечной точке моего пути, я внимательно вглядывался внутрь себя и всё высматривал, не появилась ли у меня страсть к жизни и её понимание. Но вместо этого с удивлением обнаружил у себя склонность к саморазрушению, к мазохистской деструкции своего тела и духа, благо, как и всё остальное во мне, насквозь пассивную, проникающую иногда в этот внешний кричащий мир через неглубокие многочисленные порезы на запястьях обеих рук и самоистязание себя голодом, алкоголем, тотальным уничижением и втаптыванием в грязь своего Я.
Я искал истоки своего нежелания жить не только у Ницше и Шопенгауэра, Гегеля и Канта, но также обратил свой взор ещё дальше вглубь веков, на древних антиков: блуждал по диалогам Платона, собирал по крупицам Сократа в сочинениях Ксенофонта и Аристотеля. Античные философы наполнили меня влагой познания и наивной радостью исследователя, но так и не зажгли во мне искру к жизни. Я вновь прыгнул вверх по хронологической шкале истории и добрался до понятия о Божественном у Фомы Аквинского и Спинозы. Но мои поиски на этом не закончились. Меня бросало и лихорадило по всем векам и тысячелетиям, что отобразились на испещрённой культурологическими артефактами шкуре человечества. Я по-прежнему вгрызался в мелко исписанные книжные страницы и всё не находил ответов на свои вопросы. С неумолимой скоростью я тлел, через поры своей души пытаясь всосать живительный кислород обладания истиной.
Дабы куда-то деть свою, я уверен, патологическую тягу к самоуничтожению, я начал писать, пытаясь сублимацией приручить своих внутренних демонов. Поначалу это были дневники, на старинный манер пухлые тетрадки, изрешеченные вручную корявыми знаками человеческой коммуникации. Потом я перешёл на электронные записи и мои наскальные письмена приобрели характер ровно выверенных стройных букв, размеренно шагающих по экранному листу MS WORD. Обрывки фраз, мыслей, озарений постепенно складывались в один большой морфологический ком. Усилием воли, не смотря на заложенную во мне изнеженную апатичность существования, я принял решение написать свой первый роман. Законченная, как всякая вещь, имеющая начало и конец, сумма слагаемых моего эмпирического и духовного опыта. Я рьяно взялся за работу, стуча по клавишам расхлябанной компьютерной клавиатуры, словно допотопными молоточками выстругивая мелодию на старинном ксилофоне. Я приучил себя спать по три-четыре часа и это играло мне только на руку. Таким образом я освободил для себя около двадцати часов в сутки. Теперь страдания являлись для меня не столько причиной моей внутренней боли и мучительной изжоги сердца, сколько источником вдохновения и Танатос, наконец, перестал дышать мне в спину.
Временами я уставал, впадал в инертность и бездействие, отодвигал от себя колизей со стёртыми клавишами и, понурив голову, лежал так вмятой щекой на столе. Нежелание жить с новой силой наваливалось на меня, душило в своих атлетических объятиях, сдавливало грудь механическим прессом. Ничто меня не переубедит, что душа живёт не в грудной клетке. Именно там я чувствовал и продолжаю до сих пор чувствовать болезненные ожоги агонии терзаний, словно во мне разбили десяток склянок с серной кислотой. А все только и говорят, что о сердце. Сердце то, сердце это. Презирать его надо, а не возвеличивать. Кусок окровавленной мышцы да и только.
Потом я снова брался за работу, словно барон Мюнхгаузен вытаскивая себя за волосы из болота сомнений. Тогда-то и была сделана фотография на идентификационное удостоверение, о котором я упоминал вначале. Восемнадцатилетие. Рубеж между отрочеством и юностью. Полноправный гражданин общества. Готовый потребитель товаров и услуг массового назначения. Восемнадцатилетие. И вот я изверг свой первый оконченный роман вместе с бурным семяизвержением молодости. Печататься я не стал, ибо на тот момент не это было моей самоцелью, ей являлся сам факт написания и доведения начатого до конца. Наконец, я смог выдохнуть и оглядеться. Вокруг меня валялись останки прежних социальных взаимодействий, и так всегда хлипких и ненадёжных, а тут и вовсе порушенных во имя монументальности моего замысла, и растерзанные обломки родительских надежд, ожидающих увидеть меня, пока они ещё живы, нормальным человеком с нормальным, как у всех, ходом жизни.
Уныние поселилось на моём поле боя. Зачем всё это надо? Вопросы без ответов выедали меня изнутри, а я, беззвучно стеная, не давал им выхода. Всё пропало. Пора становится пригодным и взрослым. И неожиданно для всех, и в большей степени неожиданно для самого себя, я поступил в Духовную семинарию, по окончании которой меня ждала высокооплачиваемая работа и диплом по специальности «Общий священник Христианского микса» с правом преподавания, если я вдруг возжелаю посвятить себя научной миссии. Так я отправился в длительный путь по поиску себя в Боге и Бога в себе, который, увы, пока не окончен.