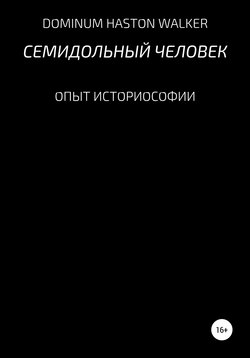Читать книгу Семидольный человек. Опыт историософии - Dominum Haston Walker - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5-ый уровень бытия. Духовная реформация
ОглавлениеСимвол Христа-Спасителя был порабощён разнузданной самостью христианства; между тем, теплилась ещё надежда, что можно спастись собственным усилием, без посредников и херувимских посланников. Раз только через чужую волю (Христа) и способен человек обрести спасение, то обязательно ли ему для этого какая-то иная воля, если основная идея – просто отлучение себя от собственного «Я»? С мистики началась секуляризация ортодоксии, ибо всяко не вписывалось в теократические установки такое наглое объявление, что единение с Богом возможно не через инструментарий церкви, а какой-то там лично разработанный, выхолощенный на языческих задворках агрегат. Первым этапом секуляризации пошла 1) аскетическая традиция мистиков; вторым – 2) движение реформации. Эти две стадии есть 5-ый уровень семидольной фабулы, состоящей из отречения от закостеневшего сознания ради мрака бессознательности.
Смотря на историю номологически, за открытие мистического парада взялся Данте с «Божественной комедией» и раз художественная точка опоры получила свой последний пазл, – душу, что по шартрскому платонизму эквивалентна Духу, – карнавал в честь бессознательности мог спокойно продолжаться с проступающим в авангарде Майстером Экхартом (1260–1328 гг.) Пятый уровень семидольного бытия – бессознательное – начинается с Экхарта по причине различия в Боге двойственности: Gott[143] и Gottheit[144]. Первое означало божество, которое истолковывало церковь, обременённого догмами, понятиями и теологическими правками; второе – истинное Божество, лишённое выразимости и сравнимое лишь с отсутствием всякой осознанности – с Ничто[145], Abgrund[146] или той же бессознательностью. Идеи Экхарта были не новы; ещё Плотин видел Единое небытием[147], а восхождение к нему – уходом в забытье[148], что у того же Псевдо-Дионисия схоже с пребыванием во мраке[149]. Добиться же милостыни Gottheit возможно через Abgeschiedenheit[150] и в этом мистики были больше гуманистами, нежели концептуализм Оккама, т. к. человек брался не неодушевлённой вещью или индивидом, а реальностью, в разы ближе стоящей к Богу, чем какое бы то ни было Писание или символ. Этим гуманизмом отчуждённости[151] подтверждалась главная идея концептуализма, что различия между сущностью Бога и человека попросту нет[152]; вместо поиска универсалия среди звёзд, достаточно было научиться видеть сакральное в себе самом, а для этого умолкали и в назидающей немоте[153] открывали сущность самих себя – Бога[154].
Безмолвная несодрогаемость – залог успеха практики по отрешению. Зачастую выделяли три основных этапа по отдалению от своего «Я». В исихазме[155] Григорий Палама (1296–1359 гг.) описал следующие стадии: 1) принижения значимости собственной души[156]; 2) подготовка души к инициации для новой жизни[157]; 3) прощание со старым Духом и принятие нового.
В испанском варианте исихазма – квиетизме – присутствовали те же три ступени развития. Сперва 1) человек также подавляет прихоти своей души, что описывалось как отказ от индивидуальной воли в угоду божественной[158]
143
Бог (нем.).
144
«Божественное» (нем.). Под «Богом» (Gott), Экхарт имеет в виду все те попытки мысли обозначить не выражаемый Абсолют. От этого и требуется отказ от своего «Я», влекомого за ложным пониманием Бога, а не тем, что Он в действительности из себя представляет. Божественное (Gottheit) есть индивидуальное понимание абсолютного, отлучённое от догматического склада мысли.
145
«Ничто» не имеет начала; поэтому Бог, чтобы сделать нас Своим подобием, не мог сделать нас ни из чего лучшего, как из «Ничто». Ибо хоть и создала душу творческая сила Бога, в ней, как и в Нем, нет вещества. Поэтому нет у души более близкого доступа к божественной природе, как «Ничто», ибо нет ничего, что бы единило так, как однородность естества. По этому поводу Иоанн Златоуст замечает: этого никому не понять, как он всеми внешними и внутренними чувствами достиг чистого созерцания божественной природы. «Ничто», которым мы были раньше, чем стали самими собой, не нуждалось ни в чем; оно противостояло всем сотворенным существам. Только божественная сила сильнее всего. И она привела «Ничто» в движение, когда Бог из «Ничто» сотворил все вещи. А теперь мы должны стать не подвижней, чем «Ничто»! – «Как так?» – Ну, слушай!» (Мейстер Экхарт. Проповеди и рассуждения. Перевод М. В. Сабашникова. – С. 55).
146
Бездна (нем.) «Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все волны и воды Твои прошли надо мною» (Иероним. Вульгата. 41:8).
147
«Оно [Единое] не есть и сущее, ибо все существующее имеет в себе как бы образ сущего, между тем, как оно не имеет никакого образа, никакой формы, даже ноуменальной», Единое предстаёт небытием» (Эннеады VI 9, 3).
148
«Душа остается без света, когда лишена присутствия Божия, когда же Бог озаряет ее, она достигает того, чего ищет. Истинная цель существования нашей души в том и состоит, чтобы быть в общении с этим светом, созерцать этот свет через него самого, а не через какой-либо посторонний свет; подобно тому, как солнце мы видим посредством его собственного света, так и Божество душа может и должна созерцать только посредством того света, которым оно ее озаряет. Но как этого достигнуть? Отложи всё» (V 3, 17).
149
«Истинно открывается Он только тем, кто отвратившись от всего как чистого, так и нечистого и пройдя все ступени божественных совершенств, оставляет все божественные звуки, озарения, небесные глаголы и вступает во Мрак, где, как сказано в Писании, воистину пребывает Тот, Кто запределен всему сущему» (Дионисий Ареопагит. К Тимофею, епископу Ефесскому I, 1.3); «поскольку чем выше возношусь я мыслью к созерцанию умопостигаемого, тем уже становится горизонт моего (духовного) видения; подобно этому и теперь, погружаясь в сверхмыслимый Мрак (Божественного безмолвия), я не просто немногословие, но полнейшую бессловесность и безмыслие обретаю» (III).
150
Отрешённость (нем.) «Теперь я спрашиваю: что составляет цель чистой отрешенности? На это я отвечаю: ни «то», и ни «это» составляет ее цель, она покоится на чистом «ничто», ибо она покоится на высшем состоянии, в котором Бог совершенно по своей воле может действовать в нас, Бог не может действовать в каждом сердце по своей воле» (Мейстер Экхарт. Проповеди и рассуждения. Перевод М. В. Сабашникова. – С. 38). Смысл аскетической отрешённости состоял и в отрешении от ветхости человека: «Так же во Христе был внешний и внутренний человек, и в Богородице, и все, что они выражали по отношению ко внешним вещам, делали они от лица внешнего человека, а внутренний человек пребывал в то время в неподвижной отрешенности» (Там же).
151
«Итак, внутреннее озарение дается неизбежно тому, кто достигает отрешенности, чья личная, обособленная воля молчит» (Там же: С. 8).
152
См. примеч. [101].
153
«Поэтому один учитель говорит: когда человеку надлежит совершить внутреннее дело, он должен стянуть все свои силы в одну точку души своей и сокрыться от всех образов и ликов, и тогда может он там действовать. В забвение и неведение должен он там погрузиться. Тишина и молчание да будут там, где должно быть воспринято то слово. К нему же прийти нельзя лучше, чем через тишину и молчание; только там можно слышать его, только там его постигаешь: в неведении!» (Там же: С. 43).
154
«Естественнейшее и собственнейшее место Бога – это цельность и чистота. Они же основываются на отрешенности. Поэтому Бог не может не отдаться отрешенному сердцу» (Там же: С. 34).
155
Исиха́зм (от др. – греч. ἡσυχία, «спокойствие, тишина, уединение») – христианское мистическое мировоззрение, древняя традиция духовной практики, составляющая основу православного аскетизма.
156
«Ибо как отделение души от тела есть смерть тела, так отделение Бога от души есть смерть души. И это есть главным образом смерть, смерть души. На нее указывал Бог, и когда, давая заповедь в раю, сказал Адаму: в какой день вкусишь от запрещенного древа, смертью умрешь (Быт. 2, 17). Ибо тогда умерла душа его, чрез преступление отделившись от Бога; по телу же он продолжал жить с того часа и далее до девяти сот тридцати лет. Но смерть, прибывшая чрез преступление, не душу только сделала непотребной и человека подклятвенным, а и тело, сделав многоболезненным и многострастным, предала наконец смерти: ибо тогда же вслед за умертвием внутреннего человека чрез преступление, перстный Адам услышал: проклята земля в делех твоих: терния и волчцы возрастит тебе… в поте лица твоего снеси хлеб твой, дондеже возвратишися в землю, от нее же взят еси: яко земля еси, и в землю отыдеши (Быт. 3, 17–19)» (Святой Макарий Коринфский. Добротолюбие. Том V. – М.: Сибирская Благозвонница, 2010. – С. 135).
157
«Жизнью мы Его именуем, благом и тому подобным» (Там же: II, 7); «Что Бог единится с нами и с небесными ангелами в нисхождении, нас учит опять же и святой Макарий, который говорит, что «благодаря Своей безграничной доброте великий и Пресущественный умаляет Себя, чтобы соединиться со Своими умными творениями, то есть с душами святых и с ангелами, так чтобы и они могли приобщиться через Его божественность к бессмертной жизни» (Свт. Григорий Палама. Триады в защиту священнобезмолствующих III, 47).
158
«Вроде бы я уже это сказала; но снова скажу и повторю много раз, что если вы на самом деле достигли единения с Богом, – не заботьтесь о другом усладительном единении, о котором шла речь, ибо самое ценное в нем – то, что в корне, подчинение нашей воли Богу» (Св. Тереза Авильская. Внутренняя обитель III, 3).