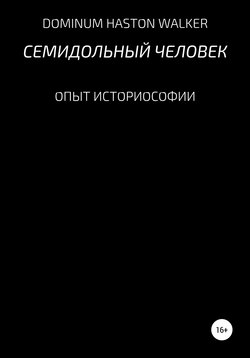Читать книгу Семидольный человек. Опыт историософии - Dominum Haston Walker - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4-ый уровень бытия. Христианизация Логоса
ОглавлениеЗа 4-ой реалией бытия идут свои авгуры и просветители. Я не уничтожу интригу, если скажу, что победоносцем резво засеменило христианство; соседствующие же семена (гностицизм и неоплатонизм) также продолжат взрастать со своим бонтонным триумфатором, но созрев, им то и дело останется, что лишь напитать лидирующее течение своими соками. Как бы грустно не звучали струны судьбы, но всему развивавшемуся параллельно с христианством было предначертано пожухнуть и стать удобрением для авгуровой троицы[84], о которых ещё пойдёт разговор. На пока, с первых таких «питателей» или обречённых на усыхание и стоит начать.
Гностики вроде валентиан (II–III вв.) сосредоточились вокруг одного незамысловатого сюжета – мифа о падении Софии. Пересказывать описание я не собираюсь, более детально с этой историей читатель сможет ознакомиться в работах Ипполита Римского[85] и Иринея Лионского[86], мною же будет взята лишь верхушка айсберга, та часть, где София покидает своё изначальное место в плероме и отправляется к эону всех эонов – Отцу. За этим поступком и скрыта символика самости валентианского учения, т. к. самостоятельность Софии вызвана её собственным желанием, собственной волей, а не велением стороннего знака. У Василида такая самостоятельность выражается не столь в Софии, ежели в Христе, но настроенность теогонического мифа указывала на другое – на невозможность отмести тягу к чему-то первичному[87]. Зависимость от отцовского изначалья также прослеживается и в секте варвелитов[88]. Гностики верили, что причина проявления самости скрыта в страстной притягательности к первопринципу мироздания, от чего мандат независимости предписывался манифестирующему из себя всё и вся единству. На этом же снедающем душу притяжении к первоначалу воссоздаётся символика самости в неоплатонизме.
В отличии от гностиков, Плотин (203–270 гг.) считал, что не только какой-то одной эманации уготована встреча с Отцом, но этими же правомочиями наделены и все остальные эоны. Правда, ни Душой[89], ни Умом[90], как таковыми, всё равно нельзя обрести самостоятельность; она могла быть достигнута только через заложенные в нас сущность[91] и влечение[92] к Единому Благу. А коли кто усомниться, что не в тяге к Всевышнему затаена самость, то «думать иначе могут только те, кто никогда не созерцал умопостигаемый мир и даже не пытался его себе представить»[93]. Инструментом, как той же сущностью, отхождения и возвращения к Единому служит Логос и одаряя нас множественностью понятий ещё не будет окончательно означать, что он не велик поступить иначе: определить не разнородность[94], а новую однородность[95]. В рамках сих историософских размышлений, Логос не есть создание одних лишь аллегорий, – такое использование самости смело проименуем ложным, – это ещё и символизация, – сотворение новой общности, – и в этом уже будет состоять истинное предназначение Logos’a, а не его собрата Misologos’a[96].
В уже рассмотренном фрагменте VI 8, 15 примечательно и другое: символ самости не просто нёс в себе потенцию Логоса (обозначение), но и самообозначения. Ум и душа сообразуются только в целостности, ведь именно целое и является целью всякой эманации. Человек – это малое Единое; собрание всех истечений в своём единстве. Собираясь подобно матрёшке, мы обретаем аналогичную независимость, что и Единое; мы сами наделяем себя новым бытием[97] и в этом специфика Логоса: что гностики с мифом о Софии породили бытие объективной реальности, то же плодит и неоплатонизм, но с диаметрально противоположной настроенностью – постулировалось не внешнее, а внутреннее, так сказать, коллекция всех эманаций – от Числа до Души – в облачении внутреннего человека[98].
Используя наработки Платона Климент Александрийский (150–215 гг.) отказался от стоического репертуара[99], полагая, что увлечение трудами своеобразных «античных материалистов»[100] опасна для познания Бога. Уход от стоицизма осуществился через изменение воспринятой версии у Филона Александрийского (25 г. до н. э. – 50 г. н. э.). От стоических вокабул, «христианский иудей» заимствовал категории Logos Endiathetos и Logos Prophoricos, заменившиеся у Климента одним единственным Словом Божьим – Христом[101]. Этим утверждением также опускался дуализм гностиков, столь пылко отрицавших материю. Теперь материя – это божественность в возможности, способная получить своё истинное раскрытие лишь через образ Христа[102].
За Климентом, Ориген (185–254 гг.) продолжил пестовать образ Христа-Самости, сравнивая его то с гностическим прообразом Софии-Премудрости[103], то с Логосом, как Словом Божьим[104]. Однако с этими давнишними данностями принималось и иное толкование, в духе Святой Троицы при участии Отца, Сына и Духа Святого[105].
В искусстве экзегезы Ориген забрёл дальше Климента и больше штурмовал сущность Духа[106], нежели Отцовствскую и Сыновью родственность. С таким вот благословением и отшвартовывался глиссер патристики, готовый разносить евангелие о Святой Троице. Троичность ипостасей вросло и в неоплатонизм[107], но когда это святотатство попалось на глаза христианству, оно тут же принялось за него; начался процесс т. н. христианизации. Первым, так сказать, христианизатором стал Марий Викторин (290–364 гг.), располагавший классическим представлением о невыразимости Отца[108], но будучи обвенчанным с наставлением Оригена о Святом Духе, начал двигаться к истинному, не успевшему измараться в язычестве Логосу. В этом Викторин объединил триаду сущего по Аристотелю и «Халдейских Оракулов»[109] с троичной божественностью[110]. Правда, обошлось не без изъяна… Азарт низвержения язычников оросил христиан иным взглядом на Логос и его место в структуре Троицы. Вышло довольно забавно, т. к. скорее не язычество христианизировалось, а само христианство позволило паразитировать на себе руинам эллинского капища: Святой Дух закрепился в качестве Мышления[111] и Ума[112], которыми достигалось викториново осознание самости в самообладании[113], а Сын соотносился с Силой и Энергией.
Роль Христа как Спасителя осталась прежней, но сущность Логоса отошла в подчинение Утешителя (Духа Святого), т. к. третей ипостаси было угодно быть не истиной[114], а светом, проводящим эту самую истину. Написанное человеком всегда что-то обозначает, и реализация творчества за Святым Духом[115] перевела Логос – символ Самости – в распоряжение третьего лика. Этому ещё поспособствовали потуги каппадокийской школы, забрезжившей на закате IV в. вместе с догматизацией Святого Духа в форме Никео-Цареградского Символа[116].
Каппадокийскую драму против Евномия (335–393 гг.)[117] нельзя разыграть без такого феномена как апофатизм[118], разбуженного от порывания с язычеством и видением в Логосе силы, образующей понятие. Логос продолжил взиматься как сущность в плане чего-то внутреннего, присущего абсолютно всему, не только человеку.
Непримиримость с еретическими и неоплатоническими идеалами выгоняет нас на два поля брани, где против первых сражались каппадокийские труженики[119], а против вторых – апофатически обточенные мысли Викторина[120] и Псевдо-Дионисия Ареопагита[121]. Христианизация языческих текстов заменила Силу или Энергию на Слово Сына[122], а Ум стал привилегий Святого Духа[123] и души[124]. Богословие этих апофатически настроенных джентльменов дало два новых витка: 1) от идеи энергийности возрастает тяга к собственному «энерго-производству» у Августина (354–430 гг.), 2) а от Каппадокии более активно стал обхаживаться вопрос «Что есть сущность?» и заняться им тянул руку Северин Боэций (477–524 гг.)
Апофатическому богословию пока было рано вступать в игру, его явление в IV в. только подготовка кострища, но не искра; катафатизму же пока удавалось центрировать на себе внимание и от этого, вновь распалился архетип Самости, снова Святой Дух начал импозантно размахивать всё освещающим вымпелом. А на флюгере, собственно, она – идея собственно ручных разрабатываемых триад, чем и выделился Святой Августин с т. н. психологическими триадами. Чем не апофеоз человеческой самости, когда человек становится соавтором первичной природы? Таким вот соавторством и прослыл Августин Аврелий; восприняв языческие и христианские тринитарности, он наплодил собственные творения[125], не без толики психологизма[126].
Не менее творчески со своей самостью обошёлся и Боэций, возлагавший гимны не просто способности производить новое, как это было у Августина, но и той ипостаси, ответственной за всё рождающееся – Духу Святому[127]. Цель Боэция одна – содрать с Бога робу загадочности и призвать к ясности Его сущность[128], а главное доведаться, действительно ли она существует или же человек всю свою жизнь так и пиршествует жалкими подачками, в виде то тринитарных концепций, то каких-то молитв? Вопрос о выразимости Бога был помечен как дилемма с универсалиями:
«То ли мы мыслим виды и роды, как то, что существует и относительно чего мы можем достичь истинного понимания, или же мы разыгрываем самих себя, создавая с помощью бесплодного воображения формы того, чего нет»[129]. В разрезе эта же идея звучит следующе: «А вопросы эти, о которых собирается умолчать Порфирий, весьма важны и полезны, но в то же время труднодоступны; не один ученый муж брался за их исследование, и мало кто сумел их разрешить. Первый из них приблизительно таков: все, что дух мыслит [бывает двух родов] – либо он постигает мышлением (intellectus) и сам себе описывает рассудком (ratio) то, что установлено в природе вещей, либо рисует себе праздным воображением то, чего нет. Так вот, спрашивается, к какому из двух родов относится мышление о роде и прочих [категориях]: так ли мы мыслим виды и роды, как то, что существует и относительно чего мы можем достичь истинного понимания[130], или же мы разыгрываем самих себя, создавая с помощью бесплодного воображения формы того, чего нет[131]. А если будет установлено, что они существуют, и мы придем к выводу, что постигаем мыслью то, что есть, – тогда второй, более важный и трудный вопрос повергнет нас в сомнение, показывая нам невероятную трудность самого рассмотрения и понимания природы рода. Ибо все существующее необходимо должно быть или телесным или бестелесным, а потому род и вид должны принадлежать либо к тем, либо к другим[132]. Так каково же будет то, что мы называем родом? Телесно оно или бестелесно? Ведь нельзя и начать толком исследовать то, что это собственно такое, не выяснив прежде, к какому из двух разрядов его следует отнести» (Комментарий к Порфирию).
От трёх оформившихся учений об универсалиях – номинализм, концептуализм, реализм – должно было остаться только одно. Концептуализм и номинализм формировали себя как «веру на разумных основаниях». Conceptus существует за тем, дабы «понимать, чтобы верить», где вера готова приниматься лишь «на разумных основаниях». Это уязвило естество реалистов, заявлявших о «вере, чтобы понимать»[133].
Поскольку средневековье очень трепетно относилось к церковным традициям, – их источником значилась именно вера, а не философия, – то победоносное знамя досталось ни номинализму, ни концептуализму, а реализму, не получившего бы победного кубка, не будь на его стороне богослов Бернард Клервоский (1091–1153 гг.), поднимавший теократию выше власти императора. Другим основанием для победы реалистов вышло отсутствие античной прививки у представителей номинализма и концептуализма, от чего каждое из учений вскорости было осуждено еретическим[134], т. о. сократив схоластический кастинг до одного единственного актёра – всё того же реалистического ветвления.
Господству реалистов отошла прихоть символа самости: поскольку реализм владычествовал над образом внутреннего человека или того же общечеловеческого универсалия, то это позволило сторонникам этой традиции самим определить следующий шаг в истории. Тяга к поиску сущности Бога или универсалия оставило схоластике два плода от древа самости: первый плод понукал доказывать величие Святого Духа через насильственное принуждение; другой, посредством того же Духа, возделывал из христиан пацифистов и мистиков. 1) Первое высказалось приближённостью к действительности и происками связующих законов между земным и небесным; 2) второе шло по противоположно направленному вектору – к мистическому созерцанию. Теперь о каждом в отдельности.
Сперва мало, что предвещало беды: тенденциозность на Дух грезила эсхатологичностью и апокалиптикой[135], но вскоре эта традиция решила станцевать с христианским радикализмом; тамбурины отбарабанили и обмыли своей властной симфонией эпоху крестовых походов[136]. Кроме этих бесчинств, церковь превратила религиозность в средство обогащения: продажа симоний и индульгенций не могли не составить ей плохой репутации и вершителем закона врывается феномен «Бритвы Оккама». Этот наездник справедливости – Уильям Оккам (1280–1347 гг.) – нёс ту же евангелие, что и концептуализм, только заменив «концепт» Абеляра на индивида (человека), а соотношение внутреннего и внешнего приравнял к отношению между реальным и логическим – верой и философией или же божественным и клерикански-земным. Святой Дух – это настройщик тождества между двумя оставшимися ипостасями и, следовательно, между Богом – Его сущностью – и тем, кто тянется к Нему – человеком. «Бритва Оккама» – это умерщвление различий и обустройство сущностного тождества[137]. Речь идёт не наобум сделанных «разрезах» и «бритвах», а скорее о «скальпеле» и трудно проводимой хирургии, ибо само понятие различимости не иссекается, а ампутируется: критикуя своих предшественников, Оккам признаёт единство природы человека и природы Бога; всё увиденное в человеческом равно есть и в божественном[138], нужно было только уметь видеть эти связующие нити. Короче говоря, оккамовский перст нацеливается на унивокацию[139] Боэция, исследовавшего акт познания из тех же предпосылок, по которым действовал и концептуализм оккамистов. За конструирование такой омонимии, а кроме этого, и за научение «видеть связь» ручается траншея мистики, ибо род её деятельности – не открытое теоризирование, а проба той на практике.
Основателями шартрской школы (990 г. – сер. XII в.) были выходцы из течения реализма, но в отличии от традиционных реалистов, они обладали большей склонностью к эклектизму с античными учениями. В готических коридорах Шартра эхом раздавался платонизм, подменявший исследование Духа на Душу (Тьерри Шартрский (ум. около 1150 г.), Гильом из Шампо (1070–1121 гг.)) Бернард Сильвестр (1085–1178 гг.) вдохновился трактатом Марциана Капеллы (368–428 гг.) «О браке филологии и Меркурия» и создал «О всеобщности мира». Алан де Лильский (1114–1202 гг.) написал «О жалобе природы», в котором божественное приравнивалось к природному. Позже этот «природный» тренд захлестнул не только материальную природу (вещи и индивидов), но и духовную; реинкарнация схоластического платонизма заставила перестать рассматривать себя каким-то логическим понятием и вновь отбросила к представлению о своём бытии в образе души. Но не только академический дидактизм Шартра нагонял душевный бриз, были и неортодоксальные дидаскалы, наставители веры и добродетели без школярной выправки. Я говорю не о чистой философии или теологии, а об их кровосмешении – художественной литературе. Столкнувшись с просвещеченством Возрождения (Данте, Петрарка, Боккаччо), в вершимом на этих странницах историософском анализе наступила пора, когда концептологический момент наступает на одни и те же грабли… Здесь мы достигаем второго элемента историософичности – номологии[140], истинность или ложность которой решили доказать в конце раздела о 3-ем уровне бытия. Описанные далее закономерности не стоит принимать за чистую монету, т. к. соприкасаясь с историософией, исследователю не остаётся ничего другого, кроме как прильнуть к теоретизму истории и вдоволь напитаться срываемым то тут, то там событиям. Так проанализировав несколько «взрывов» художественности, оказалось, что та всегда застилалась в начале пред находкой какой-то концепции: в античности от эпоса Гомера, Гесиода, орфиков концептом вышли стихии и натурфилософия; в патристике же – Бог, Христос и религия. Но смутило меня другое – лакун между эллинским и римским мирами, упущенная связь с художественностью на границе двух этих эпох. Этот факт заставил меня обратиться к Возрождению. Открылось же, что история движется скорее не столь циклично, как спиралевидно. Это хорошо видно на примере вклада Данте Алигьери (1265–1321 гг.) Подобную же параллель я решил проложить к моменту наступления нашей эры, когда всяко, – если уж мы решили идти до конца с доказательством исторической цикличности, – должен был уродиться какой-то художественный очаг и он нашёлся. Схожий перечень произведений как у Данте обнаружился у поэта Вергилия (70–19 гг. до н. э.) Однако суть цикличности и закономерного исторического развития нарушается смертью римского сочинителя. Тот, по моему глубокому убеждению, не успевает довершить гомеро-гессиодовско-орфический проект именно за отсутствием четвёртого произведения, которое должно было бы вместить в себя мистическую тенденцию орфиков[141]. Завершить же этот древний проект как раз и взваливает на свои плечи итальянский поэт. Орфическая потусторонность так и пронизывает «Комедию» Данте скитаниями духа. Взаимосвязь судеб итальянского писателя и орфиков легко отследить: орфики прониклись творчеством по причине рабовладельческой деспотии; с Данте судьба разыграла то же злодеяние, где в качестве деспота было клеветавшее на него политическое устройство. Мистика в художестве помогает сдвинуть схоластику с мёртвой точки, как некогда она помогла античности выйти на философию, а религии – на христианство.
* * *
Раскрасив один номологический портрет, стоит обрисовать следующий:
Схема 4.
В модели семидольного человека нечётным уровням соответствует начало перед концептологическим поиском, т. е. закваска для определения фасадного концепта; чётным отводится период человеческой самостоятельности, когда самостью (Логосом, способностью наименования и вообще творчеством) можно было распоряжаться как более благоразумно, так и менее. В сравнении с античностью [1], средневековье [2] развратило образ самости; Христос стал символом поиска наживы снаружи человека, но не внутри; внутренние запросы души чуждо проносились мимо и, в связи с этим, мистики, тонко прочувствовавшие загневание своей эпохи, вознамерились сделать один шаг назад, но только за тем, дабы после дефилировать уже налегке. От 4-ого уровня (неверно применённой самости) не происходит возвращение к 3-ему [3], а эволюция переходит к 5-ому, имеющему абсолютно противоположный эффект, нежели его нечётный предшественник[142]: осознанность теперь заменяется на неосознанность – отрешённость от своего «Я» – и здесь же начинается культивация мистики, как таковой.
84
Имеется в виду три ипостаси Святой Троицы.
85
Hippolytus, Refutatio VI 29, 1 – 32.
86
Irenaeus, Adv. Haer. I 1,1–8,6, ap. Epiphanius, Panarion 31 9,1 – 27.
87
«Их [людей] начальник есть Тот, Которого почитают Богом иудейским; и так как Он хотел подчинить Своим людям, т. е. иудеям, все прочие народы, то ему противостали все прочие князи. Поэтому, отпали от Его народа все прочие народы. Но нерожденный неименуемый Отец, видя их погибель, послал Свой первородный Ум – Он-то и называется Христом, чтобы освободить верующих в Него от власти мироздателей» (Против ересей I, XXIV, 3).
88
Варвелитское учение обобщает в себе сюжет как валентиан, так и василидиан. В начале описывается тот же завуалированный символ самости – рождённый «свет» – Христос – из соития одного из эонов с первичным Отцом: «Некоторые из них принимают Эона, никогда не стареющегося, в девственном духе, которого они называют Варвелос. Потом говорят, что где-то существует неименуемый Отец: Он восхотел открыть себя этому Варвелосу. Сия мысль (Εννοια) по своем появлении предстала пред ним и потребовала Предведения (Προγνωσις); когда появилось Предведение, то по просьбе их проявилось Нетление (Αφθαρσια), а за нею Жизнь вечная (Ζωη αιωνια). Услаждаясь сим и созерцая их величие, Варвелос, радуясь зачатию, родил подобный ему свет. Его они называют началом света и происхождение всех вещей, и говорят, что Отец, увидев этот свет, помазал Его своею благостью, чтобы Он был совершен. Этот свет, утверждают они, есть Христос, Который опять, по словам их, потребовал, чтоб Ему дан был на помощь Ум (Νους); и Ум явился. Сверх того Отец производит Слово (Λογος)» (Против ересей I, XXIX, 1). Плерома начинает разрастаться, и рождённая Премудрость-София повторяет судьбу, что и в валентианства: «Потом от первого ангела, который находится при Единородном, произошел Дух Святый, Которого они называют Премудростью (Σοφια) и Пруникос. Он же, увидев, что все прочее находится в сочетании, а Он не, имеет супруга, искал с кем бы ему сочетаться; и не нашедши его, Он расширился и посмотрел на нижние области, думая найти здесь супруга; и не нашедши, с досадою отвернулся назад, потому что сделал попытку без благоволения Отца» (XXIX, 4).
89
«Напротив, будучи как бы согрета теплотою Блага, она [Душа] тотчас пробуждается, чувствует приток новых сил, сознает как бы выросшие вдруг у себя крылья, и тогда воспаряет не только в область ближайше высшую, но и еще дальше, к чему-то иному, еще высшему, к Благу, делаясь все более и более легкой благодаря силе оживающего в ней воспоминания» (VI 7, 22).
90
«Как бы то ни было, но верховное существо, как абсолютно простое и самосущее, ни в чем не нуждается, между тем как второе за ним по степени совершенства существо, Ум, не есть уже в такой же степени самодовлеющее, чтобы не нуждаться в самом себе, то есть в мышлении и познании себя. Поэтому-то Ум может стать самодовлеющим и совершенным не иначе, как если, так сказать, найдет себя во всей целости, то есть приведет в сознание все свое содержание» (V 3, 13).
91
«Познается же Оно [Единое] через то, что происходит от него, то есть через сущность (Логос), через сущее (всякую произведённую эманацию), насколько сущее предполагает Ум» (дополнения в круглых скобках собственные), (VI 9, 5).
92
«Вот таким-то путем, путем отрешения от всего внешнего только и достигается нами свобода и самопроизвольность: Достигается она благодаря действию на нашу душу благо-подобного, даже самого Блага, превосходящего самый Ум, благодаря действию, в котором нет ничего внешнего, побочного, пришлого, потому что оно выше, властнее самого мышления» (VI 8, 15).
93
II 9, 16.
94
«В самом деле, когда душа познает предмет научным образом, то она тем самым выделяет его из единства и сама перестает быть единой, ибо научное знание предполагает употребление дискурсивного разума, а такой разум есть множественность, так что душа в этом случае, удаляясь от единства, ниспадает в область множества и числа» (VI 9, 4). Есть ещё фрагмент, где от той же множественности страдает уже не Душа, а Ум: «Для нас мышление, конечно, прекрасная вещь, потому что наша душа нуждается в Уме, да и для самого Ума – не меньше, потому что для него быть, существовать – означает то же, что мыслить, и, значит, он от мышления и в мышлении имеет самое свое бытие. Поэтому для Ума существенно необходимо быть в нераздельном единении с мышлением, постоянно иметь сознание о самом себе – сознание своего единства в этом своем двойстве; а будь он одно чистое единство, он, конечно, довлел бы самому себе и не нуждался бы в восприятии и в мышлении. Поэтому, если существует пресловутое правило «Познай самого себя», то оно относится только к тем существам, которым, по причине присущей им множественности, необходимо давать в ней отчет самим себе, знать количество и качество ее элементов, чего они первоначально или вполне, или совсем не знают, а равно и того, что в их природе составляет то главное и основное, которым обуславливается самое их существование» (7, 41).
95
«Для того, чтобы стать созерцателем того, что есть Начало и Единое, ему следует найти начало в самом себе, самому из многого стать единым» (VI 9, 3).
96
Лев Шестов. Сочинения в 2-х томах. Том 1. – М.: Наука, 1993. – С. 11.
97
Плотин рассуждает о становлении бытия из Единого относительно Ума, но точно таким же образом человек, как микроверсия Единого, способен также сообщать какой-то части о её приобщённости к чему-то большему: «Он есть из самого себя растущий корень разума и вместе с тем то самое высшее, до которого достигают и на котором оканчиваются стремления всего существующего. Он есть начало и основание того исполинского дерева, которое растет и живет разумосообразной жизнью. Он пребывает в самом себе, но дает бытие этому дереву тем, что наделяет его Умом» (VI 8, 15).
98
Апостол Павел в Послании к Римлянам пишет, что услаждается «законом Божиим во внутреннем человеке» (Рим. 7, 22). Затем во втором Послании к Коринфянам он говорит: «…если и разрушается внешний наш человек, то наш внутренний обновляется со дня на день» (2 Кор. 4: 16; ср. Еф. 3: 14–16).
99
В фрагменте «Стромат» (I, VIII, 40, 1) видна замена Логоса на Христа, а не на понятие как у стоиков, выступающее отдельно в качестве «слова»: «Слово спасения названо здравым учением, ибо преподавший его Логос есть сама истина». Продолжая сравнивать Христа с истиной, Климент критикует представление его понятием: «Верящий Логосу видит вещи в истинном свете, ибо Логос есть сама истина. Тот же, кто не верит изрекшему слово, не верит в Бога» (II, IV, 12, 1).
100
«Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2:8) (I, XI, 50, 5).
101
«Вот причина, почему Логос именуется Альфой и Омегой (Откр. 1:8), поскольку только в нем конец оказывается вместе с тем и началом, а завершившись, снова становится новым началом, нигде не претерпевая разрыва» (Там же: IV, XXV, 157, 1). В этой же главе, Христос учреждается в образе самости, через которого только и можно прийти к самому себе: «Вот почему верить в Логоса при посредстве его же самого – значит достичь единства с самим собой, что равносильно нераздельному и нерасторжимому союзу с ним. Не верить же – значит разделяться, разрываться и распадаться на части» (157, 2).
102
«Знайте же, что есть единый Бог, который положил начала всему и пределы. Он невидим, хотя видит все, и неограничен, сам все ограничивая. Он ни в чем не нуждается, хотя в нем нуждаются все, и благодаря ему существует непостижимый, вечный, неуничтожимый, несотворенный все создавший Логосом Его сил», то есть, в соответствии с гностическим писанием, через Его Сына» (VI, V, 39, 2–3).
103
«Также в Премудрости, называемой Соломоновой, находим следующее изображение Премудрости Божией. Она «есть пара (vapor) силы Божия и излияние (απόρροια) Вседержителя славы чистое: сего ради ничтоже осквернено на ню нападает. Сияние бо есть света присносущнаго и зерцало непорочно Божия действия, и образ благостыни Его» (Премудр. 7:25–26). Премудрость же, повторяем, имеет свое существование (subsisten-tiam) не иначе, как в Том, Кто есть начало всего. От Него родилась всякая премудрость, потому что Он есть единственный Сын по природе и посему называется единородным» (О началах II, 5).
104
«Сын Божий, Который называется Словом Божиим и Его Премудростию, один только знает Отца и открывает Его тем, кому желает, т. е. тем, которые могут сделаться способными к восприятию самого Слова и Премудрости» (II, 8).
105
«При посредстве этой-то субстанции души между Богом и плотью (ибо Божественной природе не возможно было соединиться (misceri) с телом без посредника), Бог, как мы сказали, рождается человеком, потому что для этой средней субстанции не было противоестественно принять тело, и, с другой стороны, этой душе, как субстанции разумной, не было противоестественно воспринять Бога, в Которого, как сказали мы выше, она уже всецело вошла, как в Слово, и Премудрость, и Истину. Поэтому, и сама вся будучи в Боге и восприняв в Себя всего Сына Божия, эта душа с принятою ею плотью по справедливости называется Сыном Божиим, силою Божиею, Христом и Божиею Премудростью, – и, наоборот, Сын Божий, чрез Которого все сотворено, называется Иисусом Христом и Сыном Человеческим. Так говорится, что Сын Божий умер, – разумеется, по той природе, которая, конечно, могла принять смерть, – а Имеющий прийти во славе Отца Своего со святыми ангелами называется Сыном Человеческим. По этой-то причине во всем Писании, как божественная природа называется человеческими именами, так и человеческая природа украшается славными наименованиями божественной природы; ибо об этом больше, чем о чём-нибудь другом, можно сказать словами Писания: «Будета оба в плоть едину, темже уже неста два, но плоть едина» (Марк. 10:8). Нужно думать, что Слово Божие в большей степени составляет одно с душою во плоти, чем муж с женою. Равным образом быть одним духом с Богом кому более прилично, как не этой душе, которая чрез любовь так соединилась с Богом, что по справедливости называется единым духом с Ним» (VI, 3).
106
Фокус на Святого Духа складывается от его предикативности, предсуществования до рождения Отцом Сына: «Итак, когда говорится, что Премудрость есть начало путей Божиих и что она сотворена, – это, по нашему пониманию, значит, что Премудрость предначертывает и содержит в Себе начала всей твари. Также должно понимать и наименование Премудрости Словом Божиим, а именно в том смысле, что Премудрость открывает всем прочим (существам), т. е. всей твари, познание (rationem) тайн и всего сокровенного, содержащегося внутри (intra) Божией Премудрости: Она называется Словом потому, что служит как бы толкователем тайн духа (mentis)» (I 2, 3); «В самом деле, каким бы образом могли жить все сотворенные существа, как не благодаря только Жизни? Или как стояли бы они в истине, если бы не происходили от Истины? Или как могли бы быть разумными существами, если бы прежде них не существовало Слово, или Разум?» (I 2, 4). В обоих высказывания должность Сына толкуется как бы продолжением разумного начала в Святом Духе: «В отношении же к Св. Духу имя Параклета нужно понимать в том смысле, что Он подает утешение душам, которым открывает разумение духовного знания» (II 7, 4), а не жизни в Сыне – «Итак, что мы сказали о Премудрости Божией, – все это вполне можно применить и к наименованию Сына Божия Жизнью» (I 2, 4).
107
Порфирий (232–304 гг.) размалывает среднюю эманацию – Ум: «Оно есть и мыслящее, и мыслимое по Бытию, но мыслящее есть Жизнь, когда Ум исходит от Бытия для того, чтобы стать мыслящим, так чтобы возвратиться к мыслимому и увидеть самого себя. По этой причине оно беспредельно согласно Жизни. Все это суть действия: согласно Бытию это действие, находящееся в покое, согласно Мышлению это действие, возвращающееся к себе, а согласно Жизни это действие, исходящее из Бытия» (Комментарий на «Парменид» Платона 14, 10–26. Здесь и далее данный текст будет указываться за авторством не Прокла, а Порфирия, т. к. найденный в палимпсесте Туринской библиотеки экземпляр (1873 г.) приписался первым издателем – Вильгельмом Кролем – к неизвестному платонику периода между Ямвлихом и Сирианом, то есть второй половины IV в. Эта атрибуция продержалась до 1961 г., когда П. Адо попытался доказать, что авторство принадлежит Порфирию). Вкратце этот разлом описывается следующим образом «Если в первом случае Единое есть не что иное, как чистая и неопределенная деятельность, то во втором – это серия из трех действий, Бытия, Жизни и Мышления, посредством которых оно познает себя» (Bradshaw. Op. cit. С. 106–107). Сирийский неоплатоник Ямвлих (245–325 гг.) также интересуется развёрткой и домогательством у каждой эманации её наполнения; в своих взглядах он доходит до крайностей и каждую эманацию претворяет в форме Единого и Отца: «Если Всеединое – второе начало после Невыразимого, а [будучи Всеединым, ] оно ничуть не больше то чем это, но в равной мере все; и если начало триады есть преимущественно существование, так же как второй ее член – сила, а третий – ум, то ясно, что само существо дела заставляет нас поместить Единое, как дающее начало всякому числу, прежде единицы триады» (Дамаский. О началах. I, 87, 8 – 16).
108
«Бог называется несуществующим, несущностным, немыслящим и неживым, то есть без существования, без сущности, без мышления, без жизни, но не через лишение, а благодаря превосходству (per supralationem). Ибо все, что обозначается словами, – после Него. Поэтому Он не есть Сущее, а скорее Предсущее… предсуществующий, предживущий, предзнающий» (Против Ария IV, 23, 23–30).
109
Триада «Отец – Сила – Ум» (Халдейские оракулы. Фрагмент 3. 1–4. 1; 22).
110
«Бог [Отец] – это потенция (potentia), а Логос – акт (actio), в каждом из Двух есть один и другой… Отец потому Отец, что потенция порождает акт, а Сын потому акт, что акт происходит из потенции. Следовательно, и Отец в Сыне, и Сын в Отце, но каждый из Них – в другом, и потому Они едины. А Два Они потому, что каждый из Них есть в большей степени, проявляет себя по сравнению с другим (quod magis est, id alterum apparet); ведь Отец есть в большей степени (magis) потенция, а Сын – акт, и потому Он другой, что есть в большей степени акт, а акт Он в большей степени потому, что это акт, направленный вовне (foris actio)» (Порфирий. Комментарий на «Парменид» Платона II, 3, 34–44).
111
«Действительно, Христос – это «источник Жизни» (fontana vita), а Святой Дух – «источник Мышления» (fontana intelligentia)» (ПА I, 32, 76–77).
112
Викторин идёт за Аристотелевским Универсальным Умом, «мыслящем самого себя» (νοῦς… νοεῖ… αὐτὸς αὑτὸν) (Метафизика XII 7, 1073ab; XII 9, 1074b).
113
Викторин интерпретирует Святого Духа как основу для «самосознательной деятельности» (sui ipsius cognoscentia) (I, 57, 28–29).
114
«Сын есть путь, приводящий к Отцу, в каком смысле Он есть Слово, изъясняющее и предлагающее разумной твари таинства премудрости и знания, в каком смысле Он – истина, и жизнь, и воскресение» (Ориген. О началах. I 2, 7).
115
Ещё Ориген намекал на творчество, посредством Святого Духа: «Мы же, по вере в наше учение, которое считаем боговдохновенным, убеждены, что возвышеннейшее и божественнейшее учение о Сыне Божием можно изложить и ввести в сознание людей не иначе, как только посредством Писания, вдохновенного Св. Духом, именно – посредством Евангелия и Апостола, а также закона и пророков, как в этом удостоверил и сам Христос» (О началах I 3, 1). В другом месте говорится: «Между тем, Евангелие приписывает Ему [Святому Духу] такое величие и власть, что говорит, что апостолы могли принять то, чему хотел их научить Спаситель, не иначе, как после пришествия Св. Духа, Который, вливаясь в их души, мог просветить их относительно познания и веры в Троицу. Они же, вследствие неопытности своего ума, не только сами не могут последовательно изложить то, что составляет истину, но не могут даже приурочить свое внимание к тому, что говорим мы, поэтому, мысля недостойное о Его Божестве, они предались заблуждениям и обманам, скорее совращенные духом обольстителем, нежели наученные наставлениями Святого Духа» (II 7, 3).
116
Канонизация Святой Троицы произошла на Втором Вселенском соборе в 381 г.
117
Евномианское учение заявляет о вполне явной познаваемости Бога посредством используемых человеком терминов, т. к. считает, что они сообщены свыше: «Истинные имена, включая те, что называют Бога, сообщены смертным свыше. Знающий их знает логосы творений, именуемых ими» (Собрание творений. Догматика Православной Церкви II 13). Против этого и стал выступать каппадокийский кружок, скепсис которых хорошо отразим словами Григория Назианзина: «Было бы совершенно нелепо и невежественно; такая мысль была бы несправедлива не только о пророке, но и о всяком другом человеке, имеющем разум и сколько—нибудь познавшем Бога и Его всепревосходящее могущество» (Григорий Богослов. Собрание сочинений Слово I, Слово 3. – С. 25).
118
Апофатизм – традиция апофатического, или отрицательного, богословия. Апофатическая (негативная) теология направлена на то, чтобы выразить сущность Бога путем отрицания всех возможных определений, как несоизмеримых с его природой.
119
Троица каппадокийцев – Василий Великий (330–379 гг.), Григорий Богослов (325–389 гг.) и Григорий Нисский (335–394 гг.) – выступает за поиск новой сущности, которую возможно увидеть в соединении всей Троицы. В отличии от Василия Великого, называвшего сущность – сущностью: «Если нерожденный есть имя, то уже – не сущность, ибо имена только означают сущности, а не сами суть сущность. Если же слово «нерожденный» есть самая сущность, то пусть скажут ее имя, ибо познаем не по сущностям, а по именам и по действиям, особенно же так познаем существа бестелесные» (Курсив здесь и далее собственный) (Догматико-полемические творения VI 2), у Григория Назианзина она заменяется на «естество» – «Что в собственном смысле именуется Богом, то действительно есть Бог; а равно, что по естеству есть Бог, то истинно именуется Богом; если только истина состоит у нас не в именах, а в вещах. Но они, как бы опасаясь, чтоб не все уже подвигнуть против истины, когда бывают к тому принуждены разумом и свидетельствами, исповедуют Сына Богом, но Богом по соименности, то есть по участию в одном наименовании» (Григорий Богослов. Собрание сочинений III, Слово 29. – С. 225); «если в смысле несозданного и созданного, то и я согласен, ибо безначальное и созидаемое не тождественны по естеству. А если называешь нетождественными родившего и рожденного, то положение несправедливо, потому что они по всей необходимости тождественны. Само естество родителя и его порождения требуют, чтобы порождение по естеству было тождественно с родившим» (III, Слово 29 – С. 223), и по той же колее движется Григорий Нисский «Мы не знаем имени, которое обозначало бы Божеское естество. О бытии сего естества мы знаем, но что касается до наименования, которым бы во всей силе обнималось неизреченное и беспредельное естество, то мы говорим, что его или совершенно нет, или оно нам вполне неизвестно» (Григорий Нисский. Догматические сочинения II, VII, 4–5, 4). Троица богословов ровняется на тождество имени и сущности (естества): «Нерожденное и Рожденное и Исходящее – одно естество, три личности, один Бог, который над всеми, и через всех, и во всех» (Еф. 4:6). Укажи же и ты мнимого Бога, и иное Божие естество, и тогда представлю тебе саму Троицу с теми же именами и именуемыми» (Григорий Богослов. Собрание сочинений II, Слово 26. – С. 204) и приходит к пока неизвестной, даже в самой Святой Троице сущности Бога – «Имя Безначальному Отец, Началу – Сын, Сущему вместе с Началом – Дух Святой; а естество в Трех единое – Бог, Единение же – Отец, из Которого Другие, и к Которому Они возводятся, не сливаясь, а сопребывая с Ним, и не разделяемые между Собой ни временем, ни хотением, ни могуществом. Ибо это нас делает чем—то многим, потому что каждый из нас не согласен и сам с собой, и с другими. Но Тем, у Которых естество просто и бытие тождественно» (IV, Слово 42. – С. 335).
120
«Познать Бога трудно, а выразить это познание в словах – невозможно. Более того, Бог – Сам по Себе таков, каков Он есть (quod est) – превосходит все наши представления о бытии и познании, и потому Он во всем остаётся совершенно непостижимым для нас» (Против Ария III 6, 10–11; IV 23, 34; 19, 10–20; 23, 13–14). «Имея веру в Бога, мы, тем не менее, пребываем в совершенном неведении (omnigena ignorantia) того, чтó такое Бог (quid sit) и как Он существует (quomodo sit)» (О рождении Божественного Слова, 32). В отдельном месте следующее упоминание: «Будучи запредельным всему, в том числе и самому Уму, Бог познается скорее в неком сверхмышлении (praeintellegentia), чем в мышлении» (Против Ария IV, 19, 10; 26, 10). Так же: «Это Бог, это Отец, предсуществующее предмышление (praeintelligentia praeexsistens) и предсуществование, сохраняющее Своё блаженство и Себя Самого неподвижным движением, и вследствие этого не нуждающееся в других. Он совершенный превыше совершенных, Дух, обладающий тремя силами в единстве, и превыше Духа (supra spiritum)… Сам Себе и содержащее и содержимое, пребывающий в Себе, единственный в единственном (solus in solo), присутствующий повсюду и нигде. Будучи Единым благодаря простоте (simplicitate unum), Он соединил в Себе три силы: всецелое существование, всецелую жизнь (vitam) и блаженство, которые все [в Нём] суть Единое и простое Единое (et unum et simplex unum), особенно потому, что в возможности бытия (in potentia ejus quod est esse), т. е. существования, заключается возможность жизни и блаженства…» (I 50, 1 – 21).
121
По Псевдо-Дионисию сущность предмета не выразима всё постигаемое нами, суть, одни энергии: «Мы отнюдь не «улавливаем» в них Его природу, но лишь фиксируем, как Он обнаруживает Себя для нас в Своих энергиях» (О божественных именах 7, 1); «Благая Причина всего сущего исходит в Силах (dyn'meis), творя все и проявляясь во всем; отдаваясь в Своих дарах, Она становится познаваемой, поскольку всё сущее в той или иной мере причаствует Божественным Силам» (О божественных именах II 5, 644).
122
На рубеже VI–V вв. христианизируются тексты Плотина с упоминанием энергии («Жизнь, как энергия Блага, скорее энергия, произошедшая от Блага, а Ум есть та же самая энергия, но уже получившая определенность» (Эннеады VI 7, 21, 4–6). «Жизнь есть некий след Единого, а не его собственная Жизнь. Ведь когда она взирала на него, то была еще в состоянии неопределенности; а когда она увидела его там, она получила от него ограничение, хотя само Единое не имеет ограничения. Действительно, увидев нечто Единое, она им определяется, и в ней есть и граница, и предел, и форма» (VI 7, 17, 13–27)) и некоторые гностические писания [Ипостась – Энергия – Знание] (Marsanes 9, 15–18)), наделяющие Святую Троицу тем, от чего предостерегали каппадокийцы – невозможностью пребывания в них истинной сущности Бога.
123
«Через Святой Дух Бог определяет Самого Себя (ipse se ipsum circumterminavit) и мыслит Самого Себя (te ipsum intellegis) (Против Евномия I, 31, 19–20; IV 18, 44–33; 25).
124
«Наша душа, будучи единой сущностью, то есть обладая самостоятельным существованием, или бытием (esse), не просто существует, но живет (vivere), и не просто живет, но живет, размышляя (intellegere) о своем бытии и жизни. Душа – это «единое сущее», нераздельно соединившее в себе свое бытие, жизнь и мышление. В ней жизнь не есть что-то совершенно отличное от бытия, но является его формой и проявлением, а мышление, в свою очередь, не есть что-то совершенно отличное от жизни, но является ее формой и проявлением» (I 32, 16–78; 61, 1–4; 8).
125
[Бытие – Мышление – Воля] (Исповедь XIII 11, 12); [быть – Отец, знать – Сын, хотеть – Дух] (XI 15, 20); [Бытие – Мышление – Любовь] (О граде Божием XI, 26–28).
126
[Память – Мышление – Воля] (Августин. Предварительное разъяснение Послания к Римлянам 169 2; О Троице X. 10, 13; X 11, 17–12, 19). «Я мыслю, желаю и помню; и я хочу желать, помнить и мыслить, и я помню вместе всю мою память, мышление и волю. Ведь того в моей памяти, чего я не помню, нет в моей памяти. Поэтому в памяти нет ничего, кроме самой памяти. Следовательно, я помню ее всю. Равным образом все, что я мыслю, я знаю, что я мыслю; и я знаю, что я желаю всего, что желаю, а все, что я знаю, я помню. Следовательно, я помню все мое мышление и всю мою волю. Подобным образом, когда я мыслю эти три, я мыслю их всех вместе. И нет ничего мыслимого, чего бы я не мыслил, кроме того, что я не знаю. А то, что я не знаю, я не помню и не желаю. Итак, то из мыслимого, что я не мыслю, я соответственно не помню и не желаю. А то из мыслимого, что я помню и желаю, я соответственно и мыслю. И моя воля содержит все мое мышление и всю мою память, поскольку я пользуюсь всем, что мыслю и помню. Вот почему, поскольку все они взаимно содержатся каждым [из них] целиком, каждый [из них] как целый равен каждому [из них, взятому по отдельности], и каждый [из них] равен всем вместе. И эти три суть одно, одна жизнь, один ум, одна сущность» (X 11, 18).
127
Составляя комментарии к «Категориям» Аристотеля, Боэций обозревает нам родство троичности сущего (обозначаемого, обозначающего и отношения между ними) в перспективе божественной Троицы: «Нужно знать, что категория отношения не всегда применяется только к разным предметам, как в нашем примере – к господину и рабу; ибо они различны. Но ведь и всякое равное равно равному, и подобное подобно подобному, и тождественное (idem) тождественно тождественному. Так вот, отношение в Троице Отца к Сыну и их обоих к Святому Духу подобно отношению тождественного к тождественному» (Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М.: Наука, 1990. – С. 156); примерный перевод можно встретить и в английской версии: «Божественная Троица – это вечное и неизменное отношение Бога как абсолютно простой единичной сущности к Самому Себе: Тот, Кто тождественен – это Бог как Отец; Тот, Кому Он тождественен – это Он Сам, но уже как Сын; наконец, само тождество, посредством которого Бог тождествен Самому Себе и связан с Самим Собой – это Тот же Самый Бог, но уже как Святой Дух» (Bradshaw D. The Opuscula sacra: Boethius and theology. – С. 112). Из этой связки Северин проводит параллель тождественное (обозначающее/Отец) тождественно (акт обозначения/отождествления/Святой Дух) тождественному (обозначаемому/Сыну). Ведь именно в акте наименования, приравнивания и т. п. видели силу сущности человека – Логоса – выражать сущность Бога. Этим и обусловлено выражение третей ипостаси как опосредующей и более значимой.
128
В латинском языке греческая «οὐσία» разделилась в употреблении на «substantia» и «essential» (О троице 2, 14–16; 4, 14–16; Провозглашают ли Отец и Сын и Святой Дух Божественность субстанциально 5 – 23; О католической вере 11–15). Есть даже фрагменты, где приличествуют оба варианта употребеления «οὐσία»: «Бог есть οὐσία, то есть сущность (essentia), поскольку Он существует и в особенности есть Тот, от Кого происходит бытие всех вещей» (Против Евтихия и Нестория 3, 87–90); «он существует Сам по Себе, не нуждаясь ни в чем. О Нем [говорится] также ὑϕίστασθαι, ибо Он существует как субстанция (substat)» (3, 87–90).
129
(Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М.: Наука, 1990. – С. 23).
130
На существовании сущности Бога стояли реалисты: Бернард Клервоский (1091–1153 гг.) и Ансельм Кентерберийский (1033–1109 гг.) Реализм признавал реальность универсалиев только по ту сторону, в пространстве, отличном от действительности.
131
Оппозицией реализма был номинализм во главе с Иоанном Росцелином (1050–1122 гг.), словно губка, впитавшего скепсис от каппадокийско-евномианской распри и считавшего всякую молву о Боге лишь «fiatus vocis» (сотрясением воздуха – лат.).
132
Конфидентом для обеих сторон – номинализма и реализма – был концептуализм, возглавляемый Пьером Абеляром (1079–1142 гг.). Введя термин «conceptus» (понятие – лат.) Абеляр постарался соединить в нём два мира: мир чувственных переживаний и реальность чистых созерцаний. Под самим «концептом» понималось «понятие, извлечённое из произнесённой речи, мы воспринимаем как концепт в душе слушателя» (Неретина С. Слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм Абеляра. – М.: Гнозис, 1995. – С. 118).
133
Неретина С. Слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм Абеляра. – М.: Гнозис, 1995. – С. 3.
134
В 1092 г. Росцелина объявили еретиком по причине приспешничества к тритеизму. Абеляра тоже подвергли суду (1121 г.) и на IX Вселенском соборе (1123 г.) в его трудах был выявлен ряд еретическим отклонений. В 1140 г. концептуализм Абеляра также подвергается анафеме после проигрыша Бернару из Клерво.
135
Акцент на духовность раскрывается в идее «Эры Духа» – какого-то события, способного преобразить всё былое в ином свете. Саму концепцию новой эпохи можно найти у Иоахима Флорского (1132–1202 гг.), поделившего историю на три периода в соответствии с ипостасями Троицы. Эпоха Отцовства признаётся от Авраама до Иоанна Крестителя (6 г. до н. э. – 30 г. н. э.); период Сыновства запечатлён в промежутке от воплощения Христа до 1260 г. (Иоахим основывается на книге Откровения Иоанна Богослова (стихи 11:3 и 12:6, в которых говорится о «тысяча двухсот шестидесяти днях»).
136
I крестовый поход грянул в 1096 г. и второе пришествие 1147 г. было вдохновлено деятелем реализма – Бернардом Клервоским. В XIII в. Европу постигла серия из четырёх походов.
137
Оккам взвешивал аргументы об универсалиях Дунса Скота (1266–1308 гг.) с его «haecceitas» и Святого Бонавентуры (1221–1274 гг.) с «hoc aliquid». Понятие «чтойности» Скота утверждало, что покуда между одной природой и другой не будет замечено «этости» (hacceitas), нельзя отыскать общность – заветный универсалий: «Доказывается так: если две природы могут быть необходимым от себя бытием, им обща необходимость существования; следовательно, и некая чтойная сущность, сообразно которой существует общность этой [необходимости], и от которой получается их как бы род» (Дунс Скот. Трактат о первоначале III); «а если скажешь, что общая природа достаточна существования помимо различающих природ, то следует, что общая природа актуально существует от себя и неразличима, и, соответственно, не может быть различаема» (Там же). С той же целью Бонавентура использовал своё «индивидуальное различие», рассматривая пример не на «общей природе» Скота, а на душе: «Поскольку разумная душа есть hoc alquid, естественно существует сама по себе и действует так же, как и воспринимает действия, то, следуя этому мнению, можно сказать, что она содержит внутри себя основание своего собственного существования, материальное начало, благодаря которому она существует, и формальное начало, благодаря которому она обладает бытием. С другой стороны, это не является необходимым в случае неразумной души, поскольку она опирается на тело. Следовательно, поскольку существует материальное начало, благодаря которому существование твари устанавливается в ней, должно признать, что человеческая душа содержит в себе материю. Однако эта материя превосходит условия расширения, лишения и уничтожения, и поэтому называется духовной материей» (Комментарий ко II книге «Сентенций» Петра Ломбардского а. 1, q. 2). Опровергая точки зрения обоих, Оккам признаёт, что если и остаётся какое-то различие между природами, то нельзя будет и словом обмолвиться о какой-то сущности (Universale), а только об индивидуальных «этости» и «чтойности»: «Индивидуальное отличие есть особое, а универсалия – общее; следовательно, индивидуальное отличие не является общим; следовательно, никакая универсалия и индивидуальное отличие не есть одна и та же вещь» (Уильям Оккам. Сумма всей логики 1, с. XVI).
138
Оккам старался в человеке узреть тот же божественный универсалий (См. примеч. [100]): «И посредством такого смутного акта мыслятся единичные вещи вне [души]. А обладать смутным актом мышления человека – значит обладать неким познанием, благодаря которому этот человек познается не больше, чем другой» (Уильям Оккам. Комментарий к Софистическим опровержениям Аристотеля). Упраздняя человеческие различия, уходили и расхождения между субстанцией человека и субстанцией Бога: «Поэтому Бог Сам по Себе абстрагированно познается мною в этой жизни не в большей степени, чем Папа, которого я никогда не видел, но знаю лишь согласно понятию «человек». Следовательно, в этой жизни я не знаю ни Самого по Себе Бога, ни какой-либо [самой по себе] субстанции. Если же я [познаю Бога Самого по Себе] в ином, то я познаю Его или в некоем понятии, общем Ему и иному, или в чем-то ином реальном. Если в чём-то реальном, то таковое отлично от Бога либо только логически, либо реально. Не первым способом, поскольку в первой книге [комментария к Сентенциям] было доказано, что вещь не может отличаться от вещи [только] логически; но и не реально, ибо в противном случае тогда, когда я мыслю Бога, мой акт мышления определяет некая единичная сотворенная вещь, и так я познаю Бога не более, чем любую иную вещь, о которой не мыслю, ибо я познаю лишь ту единичную вещь, которая определяет мое познание» (Конспект лекций Оккама по II–IV книгам Сентенций Петра Ломбардского III, q. VIII).
139
То же, что и эквивокация (aequivo-catio – лат.) – создание отношений между предметами, с целью приравнивания обоих в том, что обусловливает процесс отождествления, т. е. в третьем элементе, находящемся между и являющимся посредником. У Боэция посредничеством занималась ипостась Духа и в
140
См. «Основные вопросы философии истории» Н. Кареева.
141
Библиографию римского писателя составляли «Буколики» (39 г. до н. э.), «Георгики» (29 г. до н. э.) и «Энеида» (29 г. до н. э.) Первые два рассказывают о земном труде, сельскохозяйственном ремесле и моральных принципах римского гражданина. Не трудно увидеть в этом реинкарнацию трудов Гесиода с его «Трудами и днями». «Энеида» же стала перевоплощением «Илиады» и «Одиссея» Гомера. Но скончавшись, орфическому наследию так и не удалось возродиться, от чего цикличность истории нарушилась, а в этой глухости к душевной составляющей человека, средневековье как раз и увязло в повышенных акцентах на формах Духа, души. С этим связано и то, почему средневековая пора многими считается затяжным периодом истории; по моему мнению, этой стагнации мы обязаны как раз тем упущением в начале новой эры и всяческими помехами художественности выльется на свет. Из причин, по которым мы мешали проклюнуться художественному таланту, взять ту же церковь с принципом развёртки своих мыслей только в соответствии с рацеей Писания.
142
Причина такого исторического манёвра хорошо выражается словами Жана Гебсера: «Самость одной стадии становится инструментом последующей». Сравнив самость античности и самость средневековья, не трудно сказать, что вторые плохо справились с обузданием этого зверя самостоятельности, т. к. теократия растопырила свои крылья столь широко, что охватила территории, никак не пригодные для взращивания на них семени духовности.