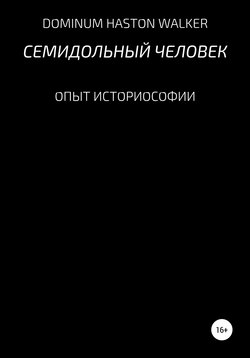Читать книгу Семидольный человек. Опыт историософии - Dominum Haston Walker - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2-ой уровень бытия. Натурфилософия и абстракционизм
ОглавлениеПривычная всем форма или же, вернее сказать, каноническое одеяние греческой философии подкрадывается под подолами Семи Мудрецов Греции. Цифра «семь» не указывала на число каких-то личностей, словно ассамблей, задавший изначальный курс; это были списки, насчитывающие в себе по семь имён, так или иначе привнёсших вклад в развитие политического и социального устройства полисов. После изжившего себя эпоса стали увлекаться лирикой; в поэтических строках воспевались псалмы справедливому управлению над государством и те, кому предписывали статус «мудреца», одновременно нарекали и продолжателями орфических общин, потому что как лирики негодовали от престольного деспотизма, так же в прошлом и демос, недовольный схожей угнетённостью со стороны своих хозяев, искал спасительства в освобождении души. Разница была в том, что в поэзии Хилона (620–520 гг. до н. э.), Питтака (640–568 гг. до н. э.), Клеобула (540–460 гг. до н. э.) – одни из тех, кого звали Семью Мудрецами – роптания были масштабного и преимущественно внешнего характера, а приспешники орфизма всё же видели облегчение на пути индивидуальном.
Были и те, кто не писал мадригалы в честь демократии и общественной стабильности, однако же, всем тогда требовалось найти где-то свой тихий уголок, своё ложе умиротворённости, где его никто не будет беспокоить. Философия как раз и заняла пьедестал мифологии, потому что старыми способами, а именно, доверительным отношением к богам, да потешанием наитием свыше уже нельзя было сыскать спокойствия. Народ понял, что не всегда стоит ставить только на богов, иногда нужно и самому постараться обустроить собственную жизнь. Этим и стали заниматься так называемые философы. Вместо поэзии, философы занялись написанием гном – афоризмов житейской мудрости[16]. Со временем, краткие высказывания стали заходить дальше обыденных сложностей и проникались глубинным смыслом. Сакрализация гном привела к выискиванию не какого-то одного решения для конкретного случая, а универсального, способного быть приуроченным к любой из проблем. Это сподвигло на происки нового первоначала.
Боги были началом начал, примером, которым следовало вдохновляться и от которого питать силы, но философия рвёт узы с этой традицией и выводит на первый план то, что сама сочтёт нужным. Семь Мудрецов Греции – это колодец независимости; стоило испить из него и личность наделялась свободой мыслить самостоятельно и философия в этом аспекте более чем атеистична.
Выходец из Семи Мудрецов Фалес Милетский (625–547 гг. до н. э.) берёт за первооснову ту же сущность, что и его эпические праотцы – воду[17], но истолковывает её уже не как божество, а как понятие. Боги были некогда символами и начав расчленять их на составляющие, Фалес проложил дорогу к новым аллегориям – представлениям о началах как стихиях. Фалес – первый представитель такого философского оплота как ионийская школа, но прежде чем продолжить с наследием ионийцев, были и те, кто отдавали предпочтение оставаться вне каких-то русел и предавались собственной интуиции. Такими эмансипированными образцами были Гераклит Эфесский[18] (544–483 гг. до н. э.) и Эмпедокл (492–432 гг. до н. э.). У эфесца, управленцем мироздания был всё порождающий, но вместе с этим и уничтожающий огонь[19]; Эмпедокл же не ограничился чем-то одним и распоряжался всеми четырьмя стихиями[20]. Вслед за Фалесом, натурализм подхватил Анаксимен (588–525 гг. до н. э.), увидевший изначалье в воздухе[21]. Но такая приземистость не могла долго струнить свободомыслие, от чего уже вторым деятелем ионической академии предпринимается попытка оторваться от земного и всего связанного с богами. Анаксимандр (610–546 гг. до н. э.) закладывает в фундамент особую сущность, лишённую всякой определённости и позволяющей ей таким образом стать универсальной переменной, вбирающей в себя все как ранние, так и поздние наработки. Все начала восходят к первому абстрактному понятию – апейрону[22].
Целью гилозоизма[23] было выхватить из кружащей вокруг материи какую-то субстанцию, которая сможет оправдать собой существование космоса и причина такой философской материальности состояла в представлении самого пространства, где эти субстанциональные сущности процветали. Чем дальше шла мысль, тем труднее становилось подбирать доводы для выдвигаемых гипотез; учителя-ионийцы переводили внимание от земной тверди к пристани абстракционизма; балом начинали править не стихии, а только подразумевающиеся элементы, каковые нельзя точно выразить или ясно увидеть. Апейрон – первый из них. Беспредельность характеризует его скорее не как субстанцию, а как пространство, где ютятся все субстанциональные единицы. Разве можно выловить рыбу, не зная, где та обитает; можно ли накопать червей, не ведая, где те копошатся? Всему присуще своё обиталище и в случае с волной новых архэ, первым таким загоном был апейрон Анаксимандра.
Наткнувшись на образно-созерцательное, к тому же ничем не уступающее наглядно-материальному, новые испытатели ринулись экспериментировать со своим воображением. Пифагор (570–490 гг. до н. э.) прельщался красками мира через палитру числовых сложений[24]; Анаксагор (500–428 гг. до н. э.) и Демокрит (460–370 гг. до н. э.) упивались разнородностью своих мельчайших и неуничтожимых соглядатаев: первый – гомеомериями[25], второй – атомами. И продолжил бы каждый ластиться о свои прозрения, если бы элейцы не задумались: «Право, ведь не зря же Анаксимандр мыслил общим планом, – всеобъемлемостью апейрона, – а не частностями, как иониец Анаксагор, да наш италийский собрат – Пифагор. Надо бы исправить эту несуразицу». И все признали в себе вторую профессию; философия стала уже не только кладоискателем, но и археологом, разыскивающим не само сокровище, а гробницу, ожидающую своих расхитителей. Но в подземных недрах не обойтись без ловушек: всякий шаг способен оказаться ложным, любое изречение гораздо отправить мародёров в начало пещеры и им предстояло бы пройти все опасности снова. Элейская школа сделала первый шаг уже в качестве и искателя, и учёного-археолога; авангардом мчался Ксенофан (570–475 гг. до н. э.) и рьяность, та поспешность, с которой он приступил к такому деликатному мероприятию обернулась излишней поверхностностью его взглядов. Будучи учеником Анаксимандра, Ксенофан тоже пытался узреть внутри себя какой-то умственный пласт, но единственное, до чего дохшли его сатиры[26], так это до посредничества между религиозно-мифологическим и философско-абстрактным полюсами. Он виртуозно осмеивал старые представления о божествах[27], как бы делая прививку будущим поколениям, чтобы они не ступили на тот же путь, что и их старики, и метили в нечто новое, не соблазняясь при этом архаичным капищем. Фланируя меж мифом и пока не продравшим свои зенки новым началом, Ксенофан центрировал внимание на божественности, но уже совершенно иной природы[28]. Сам себя он ставил промеж старческой религии и новорождённой философии, нарекая действующее в мире начало Единым или Целым.
И вот, триумф настал лишь в трудах ученика Ксенофана Парменида (515–470 гг. до н. э.). Он облачил порождающее наши мысли пространство теми же чертами, что и его учитель[29], однако пошёл дальше атеистических упрёков и подошёл к своим изыскам более серьёзно. Идеей мирового конструкта обозначилась не беспредельность, лишённая формы и не абсолютизированная стихийность, а сплошная масса вещества, или шаровидное тело, называемое бытием. Архетип бытия совмещал в себе как природу материальную, так и её умственный аналог[30]. Мир один и в нём нет разделения между чем-то объективным и субъективным, всё есть единое целое. Существует только бытие как сплошь заполненное веществом пространство, и это бытие сферично («сфайра» по-гречески – шар)[31]. Парменид как бы взял в охапку все прошлые точки зрения о мироздании и заявил, что не было и быть не могло ни в одной мысли чего-то ложного; приемлемо лишь бытие, где ложность означала бы небытие[32]. Расплывчатость союза «и» между отношением «есть» – «не есть» оставляла только «или», третьего было не дано. До этого, принцип содействия аллегорий и образование нового символа подмечалось только историософским анализом, однако здесь уже и не требуется подсказок или каких-то указателей, так как сам грек VI–V вв. наконец-то заметил эту традицию, ведущую Элладу по философским закоулкам.
Ионийско-элейскую линию по поиску универсальной сущности можно изобразить в следующем виде:
Схема 1. Esse – Бытие (лат.); Noesis – Мышление (англ.).
Парменидово бытие пока что стало высшей точкой, как средоточие всего нами ранее рассматриваемого, но вместе с этим и промежуточным плато, на котором можно поправить снаряжение и приняться за покорение верхов. Прежде, чем продолжить очаровываться греческим гением, опишем те свойства, которыми Парменид обустроил свой перевалочный пункт:
1) бытие не возникло;
2) бытие не подвержено гибели;
3) бытие целокупно (т. е. не состоит из многих частей);
4) бытие единородно (μονογενής), что надо понимать в смысле его единственности;
5) бытие неподвижно (буквально «бездрожно» – ἄτρεμες);
6) бытие законченно или совершенно[33].
Для продолжения, важно счесть, как именно Парменид видел бытие. Бытие – это всегда полнота и прежде, чем продолжить, давайте сперва опознаем, чем же таким могла быть наполнена каждая существующая крупица. Это должно было быть нечто характерное для всего мирового порядка, косвенно присутствующее во всех предыдущих аллегорических соитиях (мифом, распавшегося на стихии, и элементалями, перевоплотившихся в абстракции). Теперь, когда черёд дошёл до самих абстрактных понятий, числа, атомы и прочее вкупе с откопанным бытием Парменида определяли самую универсальную субстанцию, в горизонтах которой будут наслаиваться все следующие находки. Этим простором оказалась душа, но понимаемая не как «псюхе» Гомера, а как дух, ибо в тех же гомеровских эпопеях, все три компоненты населяли единую, духовную природу. За душой неспроста опредилалсь вмещающая всё и вся область, предпосылки для этого скапливались постепенно, тут и там всплывая у разных авторов[34].
Здесь мы вплотную подобрались к узлу всех тех навязанных с бытием вихров. Если бы эта книга называлась «Семидольное бытие», то наш исторический проводник оказался бы перебежчиком, т. к. представление о сущем всегда изменялось очень лихо, от чего можно даже сказать, что бытие – это самая непостоянная переменная. Сведя же повествование к телесности человека, мы всё равно будем придерживаться идеи бытия, но сконцентрированной в такой форме, что по габаритам, природе и очертаниям была бы близка человеческому естеству. За этим-то я и решил взять образ души, ведь этот призрак – проекция тела, по которому и отличается Homo Sapiens от всей остальной фауны; через бытие души – повторно замечу, что речь идёт именно о человеческой душе, – всяко проще добраться до истины, нежели отталкиваться от бытия вообще, ибо предавать вещи определённости, выставлять на показ какую-то одну грань – в этом и состоит особенность человека. Про «узел» сказано не из одного эгоистического внимания к заглавию книги, но и в связи почитания эллинских достижений, ведь дойдя до поворотного момента своего скромного исследования, мы тем самым пришли на распутье греческой мысли. Элеат Парменид даёт философии развилку из трёх путей и следовав кредо своего целостного бытия, нельзя было выбрать что-то одно, охвату подлежали все три маршрута и по каждому из них теперь предстоит пройти и нам.
* * *
После эпопей архаичной Греции, мифологичность прониклась философичностью и до элейских учений имела одно русло, но от манифестации бытия, словно дельта Нила, философия растеклась тремя протоками. Для упрощённого обзора, реинкарнируем ранее выведенную схему в такое вот новообразование:
Думаю, пора бы объяснить механизм работы нашей пока лишь трёхдольной структуры, но последующее изложение сможет обоюдно наложиться на все следующие формы. В эпицентре каждой стадии развития располагается ключевая для выделяемых исторических периодов матрица – носитель эволюционирующего бытия. И в ходе этого эволюционизма, каждая из форм развивалась по трём направлениям: по уровням, стадиям и долям.
Схема 2.
Уровнем обозначается форма самой матрицы, т. е. миф [1], бытие [2] и Логос [3]. Стадии и доли обволакивают заполненную матрицу: сверху стадийность [4], снизу дольность [5]. Они зависят друг от друга только по качеству или характеру. К примеру, стадия утверждения апейрона может и соотносима с натурфилософским презумпциями Анаксимандра, но такой же связи нельзя заметить при соотношении явления гном и Единого Ксенофана; такую же ассоциативность уже нельзя усмотреть в связности стоических репертуаров со стадией существования душой[35]. Долям, как и стадиям вернее будет соотноситься по горизонтальным сверкам, нежели вертикальным (апейрон обладает теми же правами, что и душа, т. е. является остовом для двух последующих стадий). Таким образом, доли и стадии разворачивают актуальный уровень бытия и связаны друг с другом преимущественно горизонтально, а не вертикально. Эта же черта сохранится и на всех последующих уровнях, как будет видно из сказанного в будущем.
16
Гномы представляют из себя наиболее популярные цитаты, вступившие в обиход как пословицы и наставительные поучения. Вот некоторые из них: «Дело умных – предвидеть беду, пока она не пришла, дело храбрых – управляться с бедой, когда она уже пришла» (Питтак); «Помните, что дети ваши будут обходиться с вами так же, как вы обходитесь со своими родителями» (Фалес); «Предпочитай убыток позорной прибыли: первое огорчит один раз, второе будет огорчать всегда» (Хилон) и т. д.
17
«Началом всего он полагал воду, а мир считал одушевленным и полным божеств» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: Мысль, 1986. – С. 17).
18
«Он не был ничьим слушателем, а заявлял, что сам себя исследовал и сам от себя научился» (Там же: С. 334).
19
«Все возникает по противоположности и всею цельностью течет, как река. Вселенная конечна, и мир один. Возникает он из огня и вновь исходит в огонь попеременно, оборот за оборотом, в течение всей вечности; совершается это по Судьбе. В противоположностях то, что ведет к рождению, зовется войной и раздором, а что к обогневению, – согласием и миром. Изменение есть путь вверх и вниз, и по нему возникает мир. Именно, сгущающийся огонь исходит во влагу, уплотняется в воду, а вода крепнет и оборачивается землей – это путь вниз» (Там же: С. 335).
20
«Единое шаровидно, вечно и неподвижно, и (это) единое есть необходимость, материя же последней – четыре элемента, виды же – Вражда и Любовь. Он считает богами и элементы и мир, представляющий собой смесь их, и, сверх того, совершенный Шар, в который все они разрешаются. И души он считает божественными существами» (Diets H. Doxographi graeci. Berlin, 1879. – С. 303; 37, т. II, С. 148).
21
«Сообщают, что Анаксимен полагал началом всех вещей воздух. По протяженной величине он бесконечен, а по своим качествам определен» (ДК 13 А 6); «Анаксимен, сын Эвристрата, милетец, утверждал, что начало сущих – воздух, ибо из него все рождается и в него вновь разлагается» (ДК 13 В 1).
22
Ипполит так пишет в «Опровержении всех ересей» (I, 6, 1) об апейроне: «Слушателем [учеником] Фалеса становится Анаксимандр. Анаксимандр, сын Праксиада, милетец. Сей сказал, что начало сущих [вещей] – некая природа бесконечного, из которой рождаются небосводы и космос в них. Он называет [природу бесконечного] «вечной и нестареющей» и [говорит], что она «объемлет все космосы» (ДК 12 А 11). Симпликий в комментариях к «Физике» (41, 16) дополняет: «Из полагающих одно движущееся начало Анаксимандр, сын Праксиада, милетец, принял за начало некую бесконечную природу, отличную от четырех элементов, вечное движение которой он считал причиной рождения небосводов» (ДК 12 А 10).
23
Гилозои́зм (греч. ὕλη – материя и ζωή – жизнь) – представление о том, что вся материя является одушевлённой.
24
Как подмечает Порфирий в комментариях к «Гармонике» Птолемея (С. 30): «Вот что пишет об этом Гераклид в «Введении в музыку»: «Пифагор, как говорит Ксенократ, открыл, что происхождение музыкальных интервалов также неразрывно связано с числом, так как они представляют собой сравнение количества с количеством. Он исследовал, в результате чего возникают консонирующие и диссонирующие интервалы и вообще гармония и дисгармония» (ДК 14 А 25).
25
«Поскольку и Анаксагор, и Демокрит принимают бесконечное число начал (первый – гомеомерии, второй – атомы), [Аристотель] сначала излагает воззрение Анаксагора, и объясняет нам, почему Анаксагор пришел к такому представлению, и показывает, что Анаксагору приходится считать бесконечной по величине не только целокупную смесь [Вселен. ], но и утверждать, что каждая гомеомерия, подобно Вселенной, содержит в себе все вещи, и даже не просто бесконечные [по числу], но и бесконечное число раз бесконечные […] Как полагали, Анаксагор утверждал, что все вещи были вперемешку и оставались неподвижными в течение бесконечного времени, затем творец космоса – Ум, соизволив разделить виды, которые он называет гомеомериями, сообщил им движение» (ДК 59 А 45).
26
Апулей во «Флоридах» приводит следующее: «Эмпедокл творил поэмы, Платон – диалоги, Сократ – гимны, Эпихарм – комедии, Ксенофонт – историю, Ксенофан – сатиры» (ДК 21 А 21).
27
У Плутарха в «О суевериях» написано: «Натурфилософ Ксенофан, видя, как египтяне во время празднеств истязают себя и поют трены [скорбные песни], кстати напомнил: “Если они боги – не оплакивайте их, если люди – не приносите им жертв”» (ДК 21 A 14).
28
«"Он полагает, что ничто не возникает, не уничтожается и не движется и что Все [=универсум] есть одно, [причем] вне изменения. Он также утверждает, что бог вечен, один, подобен в каждой точке [своего существа], конечен, шарообразен и обладает чувствительностью во всех [своих] частях» (ДК 21 В 33). В другом фрагменте говорится: «Стало быть, в силу этого бог вечен. Далее, если бог – самое могущественное из всех [существ], то ему подобает быть одним, говорит он» и далее «Затем, он постулирует, что бог «превосходит всех», разумея под этим, что он «самый сильный» и «самый лучший!» (ДК 21 B 28).
29
«Сущность бога шарообразна и ничуть не схожа с человеком: он весь целиком видит и весь целиком слышит, но не дышит, и всецело— сознание (voiis), разум и вечен», – читаем у того же Диогена Лаэртского (Там же).
30
«Одно и то же есть мысль и то, о чём она мыслит» (Блинникова Л. В. Великие философы. Словарь-справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 1997. – 284 с).
31
Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. – М., 1989. – С. 65.
32
«ЕСТЬ – НЕ ЕСТЬ. ЕСТЬ – это то, что не может не быть, т. е. это бытие, сущее. НЕ ЕСТЬ – это то, что необходимо не может быть, т. е. небытие, не-сущее. Мыслить можно только бытие, т. е. то, что ЕСТЬ, ибо то, чего нет, никоим образом не может быть мыслимо» (Здесь и далее, материал по Пармениду был взят из фрагментов, дошедших до нас в комментариях Симпликия к «Физике» Аристотеля. Фр. 3)
33
О природе. Фр. 8, 3–4.
34
Ксенофана считали первым, кто увидел у поставляемой в начало субстанции духовную составляющую: «Он также первым сказал, что все возникающее подлежит гибели и что душа – дыхание» (ДК 21 А 1). Такой же пневматический манер просматривается и у другого ученика Анаксимандра – Анаксимена: «В интерпретации воздуха как Первоначала очевидно стремление приблизить его к духовной репрезентации: воздух у Анаксимена тожествен с материей души» (Лукреций. О природе вещей. Л., 1945. 3, 624). К душевному столпу подходит и Парменид, но не через видение бытия, а стихийных сочетаний – «из земли и огня» (Досократики. – Мн.: Харвест, 1999. с С. 425). У Гераклита душа – «искра звёздной сущности» (Мегасфен, гг. 34. Ср.: Страбон, География II, 1, 9 (С70); XV, 1, 57 (С711); Плиний, VII, 2), а у Демокрита – «дыхание, вложенное в атомы с такой готовностью к движению, что что для него проницаемо всё тело» (Феофраст, De ventis II, 11; Аристотель, Метеорологика 364а5-13).
35
И хоть часть стоиков придерживалась души, как ведущей ценности, стоицизм больше прославился своими природно-космогоническими идеями, где значимее было природное, обусловливающее пневматическое: «Сходным образом и знаменитейшие из стоиков учат и об экпирозе, и об управлении космоса, и об особенном (конкретном) космосе, и о человеке, и о посмертном сохранении нашей души» (ДК 22 А 53).