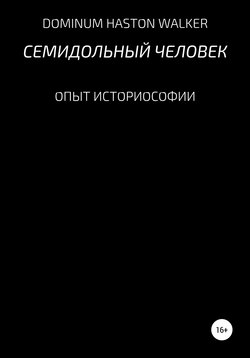Читать книгу Семидольный человек. Опыт историософии - Dominum Haston Walker - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1-ый уровень бытия. Времена до 7-ми мудрецов Греции
ОглавлениеПервыми протрубившими о пробуждении Эллады были витийства Гомера. Эпос отца древнегреческой литературы начинает психологически смотреть на человека и его место во вселенной, но прежде, чем понять принадлежность последнего, сперва стоило усвоить саму структуру мироздания. В этом грекам помогли мифы. Гомеровская космогония берёт начало от водного источника[13], впоследствии разродившегося на всем известный божественный пантеон во главе с Зевсом. Под тенями небесных правителей роятся те, кого называют людьми и условно, выделим в фольклоре Гомера три типа человека: простой люд, полубоги и человек разума. Эту типологию соотнесём с тремя компонентами человеческой природы: псюхе, тюмос и ноос. Первый вид – миряне – не нуждается в каком-то пояснении, т. к. это те же статисты и фон во всякой истории; их природе соответствует псюхе – низший духовный элемент. Вторыми идут лица переднего плана и недалеко ушедших на арьерсцену: Ахилл, Геракл Лакедемон – они наполовину боги, наполовину люди и в их распоряжение отходит тюмос – умение направлять и контролировать свою волю. До третьей формы человечества, условно названной «человеком разума» гомеровское творчество не добирается, оно обрывается на последнем элементе – разуме или ноосе (позднее, нусе). Отсюда и ключевая мысль гомеровской антропогонии – всеми тремя элементами – псюхе, тюмосом и ноосом – владеют лишь боги, человек же достоен обладать первыми двумя. Слово разума – это достояние того, кто свободен от божественного покрова, от светоносных мантий богов и их исполненных преосвященства риз; для Гомера, такая личность – persona non grata, ибо история творится первым и вторым типом, когда как третий пока ещё только ориентир, к которому продолжает пробиваться Беотия с её дидактическим эпосом Пиндара, Эпаминдона и Гесиода.
Влияние «Илиады» и «Одиссеи» не прекращало воздействовать на менталитет Греции, но значимость их угасала. Аристократизм, которым были наделены герои гомеровских текстов стал утрачивать стабильность, монархизм стал пронизывать скептицизм со стороны знати, не обладавшей родовым допуском к правлению, а сыскавшей признание своей власти в достатке имущества. От этого последовало обоснование демократической системы выбора, где порой, избранный общиной становился тираном и злоупотреблял властью во вред той же общественности, проголосовавшей за него. Эти факторы деморализовывали героический эпос и обновление эпической поэзии видилось в адаптации текстов под актуальные нужды общества. На момент восхождения беотической литературы востребованным был нравственный уклон.
Социальное неравенство, расслоение общественности могли и вовсе отставить мифологическое созерцание, однако был предпринят более хитрый ход. Божества и их нравственные черты отвернулись от героической настроенности и направились в сторону теперь уже не бравости, а справедливости и толерантности. Этим отличился эпос Гесиода в произведении «Теогония». Теогонический процесс начинается с первородного хаоса[14] и заканчивается сильнейшим из божественного пантеона – Зевсом. Если гомеровская литература отражала мужество, непоколебимость и незнание страха, то последняя ступень гесиодовой теогонии наделяется характером справедливым, знающим во всём меру и не чурающимся труда. Героический подвиг – это не страшиться проделывать одно и то же, каким бы обыденным и насущным это занятие не казалось. Речь идёт о самой просто трудовой деятельности и обеспечении себя благами первой нужды. Если благоразумный житель полиса научится преодолевать тоску от выполнения однотипных действий и обнаружить в рабочем труде истину, то никакая социальная несправедливость не сумеет поработить человека с подобным нравственным укладом.
Дидактический эпос Гесиода можно выразить всего одной цитатой, которая так же является и кредо автора:
«Если трудиться ты любишь, то будешь гораздо милее
Вечным богам, как и людям: бездельники всякому мерзки».
(Труды и дни, ст. 308–310; пер. В. В. Вересаева).
В «Трудах и днях» создаётся задел для будущей апологии таких добродетелей как умеренность, мудрость, терпение, толерантное отношения к ближнему, каким бы тираноподобным тот не оказался. Это перечень в сочетании с героической нравственностью персонажей Гомера в виде мужества, доблести и отваги раскроется уже в эллинский период у стоиков, а пока удалённость от стоицизма отзывается наполовину рациональным, наполовину религиозно-мифологическим отношением к поступкам безнравственного люда. Рациональная сторона сказывается тем, что Гесиод не верит в наказание неправедных на том свете; ему важна справедливость именно в реальном положении дел. Мифологизм остаётся только в качестве веры в лучшее и ожидается эта гармонизация со стороны сакрального:
«Ну как же тут быть справедливым,
Если чем кто неправее, тем легче управу находит?
Верю, однако, что Зевс не всегда же терпеть это будет»
(Труды и дни, ст. 271–273; пер. В. В. Вересаева).
Польза «Трудов и дней» состоит не только в поучительном разъяснении житейских основ, но заключается и в восстановлении значения личности. Гомер не давал себе повода раскрыть свою личность, он был скован традиционной поэтической техникой, лишающей подключение индивидуальности. Напутствия Гесиода, напротив, каждым отрывком проносят нас через пережитое самим автором, через его жизнь, страдания и радости. Быть может беотическая манера и не блещет красками, как у Гомера, но она позволяет личному началу всё чаще промелькивать средь старых мифологических традиций. Это хорошо видно в «Теогонии», где теогонический процесс уже первым бракосочетанием олимпийских богов утверждает союз справедливости (Зевса) и мудрости (Метиды[15]). Как Гомер отстранялся от разумного и человеческого, с таким же рвением Гесиод сращивает божественное и земное, тем самым помогая личности пробиться к свету. Индивидуальное начинает проглядывать всё больше и экстремум антропологического внимания достигается у орфиков.
Проповедником орфизма был демос – слуги и рабы владычествующих господ; этот слой населения не мог спастись материальными благами, т. к. попросту не обладал последними, но никто не был обделён фантазией; под её попечительством и скрылся угнетаемый люд, превратив мифы в спасительное орудие. Если нельзя сыскать телесного умиротворения, то обязательно можно найти аналог. Им становится абсолютизация первого элемента гомеровской структуры псюхе – тюмос – ноос. Не героический тюмос, не разумная сдержанность, а душевная свобода – вот какой ценностью изошли орфические воспевания. С этим изменяется и теогония. История перестаёт заканчиваться на Зевсе, а идёт дальше – к полубогу Дионису, прародителю человечества и виновнику смерти того, в честь кого, собственно, орфики и получили своё наименование. В мифе об Орфее, сам Орфей не сумел вызволить свою возлюбленную Эвридику из аидовых лап и душа его спутницы обреклась на вечные муки. По иронии судьбы, орфики именовали себя в честь персонажа с столь трагичным досье по причине его гибели от вакханок – служительниц Диониса, бога виноделия и всего хтонического. Эту взаимосвязь мифов я истолкую следующим образом: Орфею был вручен шанс увести душу (Евридику) от рабского забвения в тени бога Аида, но он упускает заветную возможность; в наказание, его раздирают нимфы Диониса – отпрыска Зевса (бога) и Симмелы (человека); всё дионисийское с незапамятных времён враждует с аполлоническим, как титаническое конфликтовало с божественным; эта война разразилась пристрастием орфиков к первому, а именно – вакхическому. Короче говоря, орфизм почитал убийцу своего назывателя только за одним, дабы помнить грех Орфея об упущении души; что велико опасение проворонить спасение потусторонней сущности. Ведь именно большая потусторонность и характеризует орфические мистерии. Ни у Гомера, ни у Гесиода не было прорыва человека в сферу какой-то иной реальности, главное же, не было самостоятельного ухода. Всему был указ высших мира сего, но смещение к божествам более очеловеченным заделывает переход в новую сферу мысли. Ей оказывается уже не мифологическое, а философское поприще, где вместо богов, перед нами оказываются чистые абстракции.
Подведём же теперь итог по трём родоначальникам древнегреческой философии. У Гомера высвечивается три компонента человеческого бытия: тюмос, ноос и псюхе. Героический эпос соотносится с волей; образам героям гомеровского перста покровительствовала храбрость, мужество и отвага. Со временем, разум обольщает Гесиода пристраститься к мирским, буколическим трудам с той же апофеозностью, с каковой Гомер отстаивал эпатажную воинственность своих избранников. Патетизм пасторалий по уровню смысла приравнивался к героизму своего литературного брата и на этом контрасте, развёртка человека не заканчивается. В орфических текстах достигается выкладывается козырь, покрывающий всех оппонентов и заканчивающий партию мифологической эпохи. Для орфиков, козырной картой оказались превосходные реноме таких персон как Дионис и Орфей – полулюдей, полубогов – посредников между абсолютным и низменным. Интерес к высвечиванию иного представления о человеке вызван еще одним фактором: теогонией. Теогонический процесс у Гомера и Гесиода заканчивается на пантеоне и не выходит за пределы божественной утопии, но не у орфиков; в уцелевших фрагментах греческой мистики, космо-теогонический полёт завершается не на могуществе Зевса, а на человеке, изошедшего из сердца Диониса, точно как бог виноделия, был рождён из берда своего олимпийского отца.
Описанные в разделе «О символе и аллегории» методы символизации и аллегоризации действуют следующим образом: мифологема была изначальным символом; отталкиваясь от модели именно человеческого образа, а не какой-то вещи или стихии, исследование сводится к анализу того, что древние видели в себе самих; это были воля, разум и душа, что те же аллегории, на которые распался их прообраз – человек; первое получило оправдание у Гомера, второе – у Гесиода, третье – в орфическо-дионисийском культе; в результате рассмотрения этих частных понятий, они объединяются в новое единство, с характером уже не мифологического ума, а абстрактно-философского.
13
«Океан – предок богов» (Илиада. XIV, 201), именно от него «всё происходит» (Илиада. XIV, 246).
14
«В хасме (хаосе) и от тёмной земли, и от Тартара, скрытого во мраке, и от бесплодной пучины морской, и от звёздного неба все залегают один за другим и концы и начала страшные, мрачные. Даже и боги пред ними трепещут» (Теогония, 736–739).
15
Мудрость, разум (греч.).