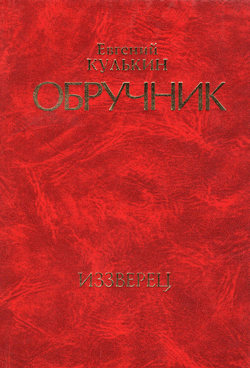Читать книгу Обручник. Книга вторая. Иззверец - Евгений Кулькин - Страница 48
Глава третья. 1903
7
ОглавлениеСверчка здесь не было.
И необузданности, которая захватила его в Кутаисе, тоже.
А что же было?
Коба неожиданно понял, что где-то внутри начальственной недосягаемости, а, точнее, все же, недоступности, живет миф, которым он облагородил свой образ.
Пока точно нельзя сказать – со страхом он воспринят или со смехом, – но он – есть.
Присутствует.
Наличествует.
Заставляет помнить то, о чем можно было бы вроде и забыть.
Заключенные тут, в Батумской тюрьме, встретили его чуть ли не как героя.
Почти восторженно пересказывали то, что он безусловно знал лучше их, поскольку в этом участвовал, – имеется ввиду бунт в Кутаисе.
И хоть они ни на что не намекали, а тем более, не просили, Коба понимал, что это его час.
Пусть не звездный, а только подзвездный, но все тот, который грешно упустить.
И его надо использовать так, чтобы не особенно повторять кутаисский вариант.
А как разнообразишь, когда суть-то, в общем, одна?
И не было сверчка.
Того самого вдохновения, из которого и вытекает истинное безрассудство.
Почему он в свое время не достиг поэтического мужания?
Да все потому же, что не было того самого «сверчка», – словом того, что не дает покоя и будоражит не только душу и сердце, но и судьбу.
Он сам не знал зачем, а главное, почему помнил Коба одно стихотворение Дмитрия Донского, которое всякий раз перечитывал даже, кажется, против своей воли.
Оно приходило и, как кто-то удачно сострил: «Садилось и болтало ногами».
Вот и теперь оно нагрубло где-то под кадыком.
Не дает сглотнуть раньше, чем сказать. И душу какая-то неведомая потреба, и стихи сами навяливаются, сперва на память, а потом и на губы.
И он читает их не шепотом, а только вспучиванием губ.
И вот сейчас потянулись одна за одной строчки, чтобы, свившись в строфы, как нитки жемчуга, стать чем-то сугубо драгоценным:
Все на безумство налегают,
Чтобы любовью то наречь,
Что в каждом сердце возникает,
Чтобы душу пламенем ожечь.
А это все зовется дурью,
Которой, в общем, суждено
Явится в мир из бескультурья
И кануть глупости на дно.
И дальше, мудро рассуждая
О том, что было и прошло,
Ряди в цветы святого рая,
Из ада присланное зло.
А сверчка все не было.
Но именно завтра он устроит тот самый бунт, который в Кутаисе сослужил на пользу.
Как-то будет здесь? – И пойдут торги вплоть до каторги.
Это он – в строчку и вслух – произнес строки кем-то заспех сочиненного.
Конечно же, его не помилуют.
За ту самую манифестацию.
Да и за Кутаисский бунт тоже.
Там учет ведется скрупулезный.
Кто-то во сне выборматывал признание в любви.
Наивец.
Какая может быть любовь, когда есть идея, что стала выше веры.
Коба не заметил, как был сражен сном.
А когда от него очнулся, было уже утро.
Снова его утро.
Только на этот раз оно не было настроено на каких-то переживаниях и волнениях, поскольку стекло в пригоршни будней.
Тех самых, из которых сложится обыкновенность, какую потом назовут историей.
И бунт получился именно будничным.
Без эксцессов.
Без вызова полка солдат, как это было в Кутаисе.
И все требования заключенных были удовлетворены.
И опять на него указывали пальцем.
И снова о нем, как сказал один из надзирателей, «горькими слезами исходит каторга».
Но оказалось, что о нем плакала только ссылка.
В Восточную Сибирь.
Но это все еще впереди.
А сейчас – ожидание суда.
Его суда.
Когда он скажет то, что еще не говорил никто.
Почти так же, как Карл Маркс.
И может, его речь тоже будет изучаться политическими кружками и выдаваться, как чуть ли не главный обвинительный документ эпохи.
А пока – отдохновение.
От всего, что произошло.
И от того, что случится впредь.
Вот жаль только, что не было сверчка.
Для рефрена.
Досье
Каменев (Розенфельд) Лев Борисович. Родился в 1883 г. в Москве. Окончил гимназию в Тифлисе. Во время обучения в Московском университете вступил в студенческий социал-демократический кружок. Член партии с 1901 года. Вел революционную работу в Закавказье. В 1903 году эмигрировал.
Досье
Зиновьев Григорий Евсеевич (Радомысльский-Апфельбаум Овсей-Герш Аронович) родился 1883 года в Елисаветграде. Отец – владелец молочной фермы. Получил домашнее образование. Учился в Бернском университете. Но не окончил его. Жил в Швейцарии. С В. И. Лениным познакомился в 1903 году.
* * *
Горький никогда не думал, что так способен волноваться.
Совсем по-юношески, даже по-ребячьи. С привкусом того, что чего-то должно непременно случиться. Выбить из колеи. Выставить в смешном виде.
Хотя он уже, кажется, привык к той славе, что лавиной обрушилась на него.
Сперва после «Мещан». А потом и той пьесы, которую он непритязательно назвал «На дне».
И вот нынче, под новый девятьсот четвертый, он зван на вечер, где будут Антон Павлович Чехов и Федор Иванович Шаляпин.
Сказка да и только.
И еще одна дата надвигается.
На этот раз сугубо чеховская.
И посвящена она четвертьвековому юбилею творческой деятельности Антона Павловича.
За окном делает пируэты метель.
Где-то далеко спотыкается о незнание слов песня.
Извозчики мельтешат в глазах.
Все куда-то торопятся.
Идет к финишу предновогодняя суета.
И вдруг он увидел его, не вошедшего в пьесу героя, который в свободное от чудачества время исполняет роль полового.
Он так и говорит:
– Работают в России – единицы. А все остальные исполняют роль.
– Вот, видите, – указал он на полицейского. – Что по-вашему он делает?
– Стоит на посту, – говорит Горький.
– Нет, – не соглашается половой, – репетирует встречу Нового года или купание в проруби на Крещение.
Алексей Максимович усмехнулся.
Очень похоже.
По жестам.
– А вон там та барынька, – указал он на праздношатающуюся женщину, – пытается исполнить роль уличной красавицы. К которой поклонники выстраиваются в очередь, чтобы зарегистрировать свое почтение.
Странный этот Евграф Евграфович, как зовут полового.
И постоянно нетрезвый.
И всегда при мнении, которое обескураживает.
– Антошке, – говорит он про Чехова, – лучше бы врачельней своей и заниматься. Не плодить скуку своими дохлыми рассказами.
Горькому хочется крикнуть: «Да много ты понимаешь в литературе!».
Но не кричится.
Что-то есть в полотере такое, что отпугивает категоричность.
– Да и его он величает на свой лад – Максим Горькович.
Странный это человек, но чем-то к себе притягивает, что-то в нем более чем искреннее, что ли, почти детское, открытое до самой последней степени открытости.
Когда-то, шляясь по тем местам, от которых несло клоакой, ему приходилось встречать людей, которые играли в таких вот чудаков, как Евграф Евграфович. Подделывались под его имидж.
А оригинал не только вел себя раскрепощенно, но еще и позволял демонстрировать застенчивость, от которой тоже становилось не по себе.
Но в оценках он крут.
Вернее, даже не крут, а категоричен.
И его совершенно не волнует, разделяет кто с ним его мнение или нет. Оно как бы существует для того, чтобы быть.
Как наступает, скажем, тот же день.
Или ночь.
И природе или Богу все равно, мило тебе это или нет.
Горький не заметил, когда в руках Евграфа Евграфовича появился томик рассказов Чехова.
И как он его начал, естественно, с пристрастием читать.
– Вот смотрите, – произнес он, – три начала: «Один учитель древнейших языков…», «Один умный, всеми уважаемый участковый…», еще через рассказ или два опять однородное с предыдущими числительное: «В одно прекрасное апрельское утро…». Ну и так далее.
В народе это называется «бодяга».
И напиши подобное кто-то другой, отложили бы, не читая.
А тут – гений…
Горькому было, так и хочется сказать горько.
Слово, и несладко от всей этой нелестности.
Хотя Евграф Евграфович был безусловно прав, что при??? составлении следовало бы учесть, что и такие могут повстречаться придирчивые читатели.
– А диалог у него каков, – продолжал разогревать свою антипатию к Чехову Евграф Евграфыч, – мухи со скуки подохнут.
И вдруг – из-за пазухи – выхватил какую-то вконец затрепанную книгу и начал читать:
– «Долго-долго погарала заря бледным румянцем. Неуловимый свет и неуловимый сумрак мешались над равниной хлебов».
Горький мучительно пытался вспомнить, чье это.
Ведь именно по этой причине Евграф Евграфович выдал этот отрывок.
И еще, чтобы огорошить, сравнением.
– Это – Бунин, – не стал томить Евграф Евграфыч.
Горький закивал.
– Одно «погорало» что стоит! – подхватил.
– Значит, тоже чувствуете, – продолжил Евграф Евграфыч. – Но почему не пишете так?
Он, наверно, все же чуть подсмутился, ибо поправился:
– Я имею ввиду, почему так не пишет Чегов, – так и назвал его через «г». – Что ему мешает быть не только понятным, но и ощущаемым?
Горький чуть подзамешкался с ответом на этот вопрос, и Евграф Евграфыч продолжил:
– Мне все время кажется, что сделав о себе заявку, писатели потом как бы опускают крылья. Лень им парить, раз набрали высоту. Потому иногда и падают камнем.
Горький уже давно заметил, что спорить на литературные темы неимоверно трудно. И не оттого, что противоборствующая сторона слишком горяча, там, где требуется холодный рассудок.
А еще и потому, что рядом плавает ощущение правоты, которую ты не хочешь признавать.
– И к графу у меня претензии не меньше, – заключил Евграф Евграфович и Горький понял, что тот имел ввиду Льва Николаевича Толстого. – Но у того тоже защитный жир славы такой, что не прошибешь.
Алексей??? хотел что-то сказать, но Евграфа Евграфыча рядом уже не было.
Видимо, он пошел доспаривать уже с самим собой.
Или с чаркой водки, которая, конечно, способна заменить любого собеседника не своей разговорчивостью, а значительным, каким-то потусторонним молчанием.