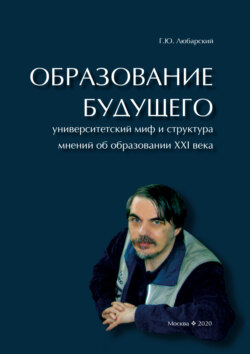Читать книгу Образование будущего. Университетский миф и структура мнений об образовании XXI века - Г. Ю. Любарский, И. Я. Павлинов - Страница 13
Часть I. Старое платье короля
Медиа как источник картины мира: вместо университета и школы
Оккультура: подкладка и основа общения
ОглавлениеКогда-то, в предшествующие нашим времена ситуацию с культурой можно было представить так. Существует базовая, общая, знакомая всем культурная подложка, и на ней основаны все прочие надстроенные коммуникации. Вся зна-ниевая сфера общества может быть представлена как плотное ядро, общее для всех возможных коммуникаций, и разной толщины лучи-радиусы, выходящие из ядра в разные стороны. Общая культура и специализированные темы. Когда мы оказываемся в специальных темах, мы часто не можем друг друга понимать: нет необходимых знаний и опыта. В ядерной культурной области мы понимаем друг друга очень хорошо: эти знания есть у всех. Если не получается специальная коммуникация, её пытаются перевести на «общий» язык, для понимания специальные темы приходится «опускать» до общего языка коммуницирующих.
Эта базовая культура, которая делает возможным общение, может называться школьной. Есть общая платформа – классы школы – на которых стоят все люди, у них общий базис знаний, а потом от этой общей площадки расходятся специализации. Один композитор, другой физик, третий шахтёр – а школа у них общая. Это общий язык и общая база знаний всех членов общества, позволяющая общение всех со всеми.
И, с другой стороны, этот базис можно обозначить, указав на слово «классика». Классика – это то, что все проходят в школе. Это выделенные уже в ядерной области культуры знания, которые составляют особенно авторитетный фонд культуры. Это общий словарь, общая база коммуникации, опорный скелет всего множества знаний. Все могут понимать друг друга, опираясь на ядро общей культуры, и в этом ядре прошита система оценок, авторитетов, позволяющая оценивать вновь поступающие знания, эта система авторитетов называется классикой. В этом смысле школа является основой иерархизации, здесь определяется, что считается в обществе «принадлежащим к ядру культуры» и должны знать все, а что является второстепенным и дополнительным. В школе устанавливаются иерархии книг, авторов, значений, предметов, специальностей. Эти установления не слишком навязчивы, но обладают длительным воздействием и многократно сказываются в дальнейшей социальной жизни. Школьная программа определяет, что математика и физика – на вершине знания, а география и геология – среди дополнительных дисциплин.
Культурные специализации, «лучи», в отношении этой общей ядерной области имеют разную значимость. Некоторые специализации правильно будет обозначить как «эзотерические» области, и к таким областям относилась прежде всего наука. Слово «эзотерический» тут строго соответствует определению – это знание, доступное не всем, недоступное непосвящённым. Следует принять некие испытания, большой труд, чтобы это знание было открыто человеку. То есть существуют знания неэзотерические, которые устроены просто – глянул, скажем, в инструкцию, перевёл взгляд на предмет – и сделал. Но в нашей культуре ведущими являются эзотерические знания. Например, чтобы стать врачом, надо учиться очень много лет и прилагать значительные усилия, объяснить врачебные решения за краткий срок непосвящённому невозможно. Так устроено всё научное знание – и таинственная физика, и закодированная биология. Научное знание по сути таково, что оно не может быть понято «сразу», влёгкую. Даже если есть хороший учитель, даже если есть все доступные материалы, если всё разложено по полочкам – всё равно потребуются годы, чтобы только начать понимать, о чём речь. Это не зловредность и не замшелые традиции, такой характер с необходимостью следует из специфики научного знания. Все обладают общим, школьным знанием, и между этим общим знанием и знанием науки лежит пропасть; из общих знаний не удаётся сразу перейти к научному знанию – надо много лет учиться.
Поэтому длина лучей и степень эзотеричности измеряется в единицах времени: в годах обучения. Некое специальное знание, – допустим, знание врача – отделено от ядра 20 годами обучения и развития специализации. То есть менее чем за 20 лет не удаётся пройти эту дорогу специализации. Эти годы затраченной жизни и отражают глубину специализации. Квалифицированный физик отделён от специалиста врача собственными 20 годами специализации плюс 20 годами специализации врача, в сумме 40 годами.
Это – нормальная ситуация, так устроено научное знание и вообще специальное знание, и всё же следует добавить, что это – ситуация прошлого состояния общества: это прошедшая норма. В мыслях о реальности мы отталкиваемся от этой картины, как будто существующей (хотя она и выражена несколько парадоксально, через слово «эзотерический»), но, по сути, это совершенно нормальная ситуация. Обычно говорят иными словами, о том, что для занятий наукой необходима углублённая специализация – это тот самый эзотеризм и есть.
Теперь, помня эту схему из прошлого, можно попытаться сказать, как же выглядит современность. Можно видеть, что ядерная, школьная область культуры постепенно редуцируется. Школьное ядро поддерживается бюрократическим способом, государственным принуждением: все обязаны получить в школе образование. Это требование является формальным, к нему как к формализму относится всё больше учителей и всё больше учеников, для реальной жизни в обществе такое образование не нужно. Картину мира получают из медиа, многие знания получают самостоятельно, ориентируясь, опять же, по имеющимся в медиа маркёрам. Общее ядро культуры уменьшается, деградирует, возможность понимать друг друга независимо от специализации уменьшается. Исчезает коммуникативное единство общества. Предел этой редукции известен: это язык. В обществе часто оказывается так, что все знают естественный язык (это так не всегда, но всё же часто). Этот тот минимум, к которому редуцируется современная культурная ситуация. Почти нет общей базы знаний, редуцированы представления о классике, нет общих ценностей и авторитетов, почти нет общих знаний. Общими являются язык, основы психологии и физиология.
Теперь можно задуматься: если у нас вот таким образом редуцировалось ядро культуры и его внутреннее устройство (классика), что будет с «лучами» специализаций? С ними много что происходит, но прежде всего надо переформулировать вопрос. Лучи специализаций означены только по отношению к ядру. Пока у нас есть общее ядро коммуникации, общее понимание, мы говорим, что есть ещё и специальные знания, которые получают лишь удаляясь от этого ядра. Если ядро «совсем» утрачивается, не получится говорить о специализациях, это будет что-то совсем иное. Но вроде бы специализации в современном обществе есть и хорошо себя чувствуют – в самом деле, есть множество очень специальных знаний. Более того, в школьное образование с разных сторон проникает всё более ранняя специализация. Детей с четырёх лет учат программированию. Кто-то очень рано даёт детям языки, кто-то специальные математические курсы и т. п. Уже в начальной школе стараются ввести специализацию. Господствует мнение, что на рынке конкурирующих профессионалов решающим оказывается время наработки опыта решения задач, и всё, что тут можно – начать заниматься как можно раньше. Тогда время на освоение будущей профессии увеличивается и на выходе оказывается более опытный и зрелый специалист, имеющий конкурентное преимущество. Специализация становится всё более ранней и углубляется. По отношению к чему она является специализацией, если школьное ядро редуцируется? Что занимает место общего знания?
Ответ довольно неожиданный и в то же время проясняющий, отчего этот вариант не приходит в голову: ну не может же такого быть. В современном обществе место культурного ядра, содержащего общие знания, занимает массовое оккультное знание, это массовая подложка современной культуры. Получают оккулътуру вместе с картиной мира, из медиа, и в то же время распространена она настолько широко, является настолько массовой, что в целом действительно занимает в схеме знания то же место, что школьные знания в XIX в. Это то, что знают «все».
Это смесь современных оккультных практик, нетайных тайных знаний, мусор и окрошка из всего «таинственного», и всё это выброшено на публику, причём уже давно, и всё это стало массово известным. Нет, школьные знания больше не являются основой для массовой низовой коммуникации. На «Волга впадает» и «Мороз-красный нос» не построить вменяемого общения, даже на «Никогда ничего не просите» – тоже не построить. Ни школа, ни классическая литература не составляют теперь основы массового общения.
Надо специально уточнить – массового. Речь идет о современной низовой культуре. Не о великих духовных достижениях, а как раз о том, что веком ранее сравнили бы с лузгой от семечек – то, в чём сам полощется рот, что легко понятно любому встречному, удобная тема чтоб перекинуться словом. Там и Нибиру, и зомби, и гороскопы, и все-все-все. Там Кастанеда, там дзен, тлен и тхэквондо, фитнес и иконы. Там своё устройство и огромное разнообразие – там радикальный энвайронментализм и глубинная экология, там формы общения с неведомым – ангелы и медиумы, приходы и осознанные сновидения, НЛО, НЛП, фен-шуй, каббала. Там даже джедаи и человек-паук.
И вот это, неизучаемое в школе, теперь является той базой, на которой строится общение, это и есть низовая культура – веком ранее её назвали бы народной. Вместе с разговором, кто какие наркотики пробовал (с обычным добавлением – не, фигня, не вштыривает, не то), вместе с упоминанием, кто какие практики пробовал. Ядро культуры по-прежнему существует, но – поскольку картина мира берётся из медиа и усваивается бессознательно, это ядро больше не является рационалистическим и состоящим из позитивных знаний.
Внутри школьного ядра, как уже говорилось, были свои конституирующие элементы – классика. Классика науки, классика литературы, классика живописи – она самая разная, важна лестница авторитетов, встроенная этими списками классики. Классика подразумевает ориентацию на неё как образец, она занимает своё место в списках не по собственному мнению человека, а по утверждению внешнего авторитета – такой авторитет имеет в культуре модерна безличную форму, «так учат в школе». И в оккультуре тоже можно отыскать такой внутренний скелет, глубинные авторитеты, определяющие направления развития. В целом это, например, ряд восточных учений – очень многие течения оккультуры берут начало в восточных практиках. Они, разумеется, могут быть искажёнными до неузнаваемости и имеют отдалённое отношение к оригинальным религиям или учениям, но всё же – у них восточные корни. Как говорится, мудрость Востока и демоны Запада: демонология в оккультуру берётся из западных источников. Эта восточная мудрость и христианская демонология в разных вариантах сплетённые в том или ином течении оккультуры, и поставляют нечто сравнимое с «школьной классикой». У этой окклассики есть характерные черты: не знать её стыдно, незнание подвергается осуждению. Очень многое из банального школьного курса можно не знать и даже бравировать этим незнанием, но вот отличия тоналя от нагваля не знать стыдно, как и не слышать о Гюрджиеве. Тем самым это именно авторитетная «классика», задающая основные ориентации при движении в море оккультуры, постепенно формирующая систему ценностей и образ поведения.
Отсюда имеются некоторые следствия. Сейчас крайне популярной является мысль, что история есть по преимуществу история технологий, всё, что происходит в истории – это технологические инновации, и один и тот же «человеческий материал» проворачивается через разные технологические схемы. То пирамиды строит, то звездолёты. Направление истории задаётся технологией, что возможно, то и строят, что строят, то и происходит. Эта довольно беспомощная и наивная точка зрения, если посмотреть внимательнее, преобразуется в другую. Технологии всегда есть средство, а не цель. Цель задаётся системой ценностей и картиной мира. Если в ядре культуры находится оккультура с «мудростью Востока» (и демонами Запада), то именно эта мудрость (и эти демоны?..) и задаёт цели для движения технологий. Достаточно посмотреть в 60-е годы XX в. и Силиконовую долину, становится видна личная идеология творцов современного технологического мира – лайт-буддизм, недеяние и вот это всё.
«Идеалы Запада» заменились там, «в глубине», мудростью Востока. Тем самым можно написать полную формулу глобализации: это западные технологии, используемые восточной духовностью. Можно снова оговориться: это заимствованная и искажённая духовность Востока, нельзя её легко отождествлять с оригинальными восточными учениями – но тем не менее. Эти мысли и эти ценности имеют именно такой источник. Так выглядят направления специализаций: западные технологии, обеспечивающие восточное целеполагание и восточную мудрость. А под этими «лучами» специализаций, в ядерной области, в подкладке массовой низовой культуры лежит оккультура, а не школа и не классика.
Наука остаётся высокопоставленной эзотерической областью культуры. Но интересно, что у неё сменился фон, она стоит на другом пьедестале. Согласитесь – большая разница, одно дело, когда наука стоит на фундаменте школы и окружена поверхностью «классики», классической рационалистической культуры, и совсем другое дело, когда та же – допустим, та же – наука стоит на фундаменте оккультуры и вокруг неё моря оккультуры с соответствующими глубинами. Что вы хотите, эра Водолея близко.
Когда картина мира и многие важные знания берутся не в образовательной системе, а в мире медиа, рушатся многочисленные «априорные» свойства образовательной системы – изменения происходят антропологические. То есть рождается новый культурный тип человека. Как в XIX и XX вв. сочиняли «мышление дикаря», который мыслит вне логики и вообще много чего не понимает, так сейчас появляется столь же отличающийся от привычного новый антропологический тип. Отличающийся, разумеется, не «биологически», а по «впитываемому с молоком матери», по интеллектуальным привычкам, которые кажутся свойственными всем нормальным людям.
Одно из часто отмечаемых свойств – отсутствие системности мышления. Человек не знает, где в его картине мира дырки, даже если ему их показывают – не представляет, где и как взять сведения, чтобы залатать дырки. Он не умеет получать новые знания – если ему указать источник и сказать «выучи это», он может выучить конкретный источник, если не указать – он не способен отыскать доброкачественный источник знаний и понять, что закрывает его дырку в познании мира, а что – нет. Человек не умеет идти от известного к неизвестному, не может работать с уровнями и границами. Это звучит как набор общих слов, но становится очень конкретным при столкновении со всё растущим числом детей, которые в четвёртом классе не способны освоить вычислительные навыки с переходом через 10; у них счёт только внутри 10 и не может быть продолжен за этим барьером, где цифры сменяются числами, то есть не возникает понятия числа. Слабое понимание границ не позволяет понимать противоречия: люди могут очень легко принимать взаимно противоречивые точки зрения и идеологии, не способны видеть: если верно одно – не может быть верным противоположное. Вместо чувства истинности возникает смутный релятивизм: всё возможно, всё в той или иной степени верно. Это слабое понимание границ порождает неумение создавать информационные фильтры. В мире медиа неумение фильтровать информацию приводит к полной беспомощности и управляемости: новая информация добавляется без учёта мировоззрения, не структурированно, бессистемно, простым сложением: а вот и так ещё бывает.
Преподаватели отмечают также иные проблемы. Например, с восприятием вещей чисто логического характера произошли существенные перемены. Раньше многое культурой подразумевалось и потому воспринималось очень легко и естественно. Сейчас оно не воспринимается даже при систематическом изложении. Эта закономерность очень заметна и наблюдается уже много лет подряд, кратко описать её можно так: утрачено логическое чутьё. Это по большей части даже не нарушение логических формализмов, а утрата понимания смысла. Если требуется утверждение вида «если не А, то не В» превратить в форму «если В, то А», то ведь можно даже не знать, что есть «закон контрапозиции», можно просто поработать со смыслом утверждений. Но этот ход теперь обычно закрыт для мышления, со «смысловыми» вещами перестали успешно работать.
Прежде существовало «содержательное мышление», человек мог забыть логический формализм, но прекрасно понимал «по смыслу», что следует сделать. Сейчас, если забыто формальное логическое правило, ничто уже не подсказывает, что делать – эти смысловые связи утрачены. Прежде в культуре содержалось некоторое смысловое умение, которое легко переводилось в логическую форму. Сейчас такое умение работать со смыслами утрачено, и при занятии логикой приходится учить законы построения логических суждений без подсказки смыслового мышления. Такие «утраты смысла» указывают на язык: иначе переживается владение языком, прежде язык дарил носителю такую смысловую логику, теперь к языку люди стоят в другом отношении и этот аспект от него не получают.
Это до некоторой степени аналогично тому, как воспринимают арифметику – в известном примере, рассказанном Арнольдом. Ученикам второго класса во французской школе задают вопрос: «Сколько будет два плюс три?» Ответ: «Так как сложение коммутативно, то будет три плюс два». Ответ совершенно правильный, но ученику и в голову не приходит сложить эти два числа, потому что при обучении упор делается на свойства операций. Арнольд говорит, что эта формализация мышления свойственна определённому направлению развития математики – «бурбакизму». Как развивается современная математика – сложный вопрос, не будем на него отвлекаться, но в этом примере проявляется воспитываемая современностью формализация мышления, что интересно – эта формализация препятствует смысловому мышлению и овладению логикой. Внутренний смысл логической операции невнятен, всё сводится просто к запомненному формализму.
Логику приходится «впихивать» в упирающееся мышление, воспитанное скорее на свободном комбинировании чего угодно. Такое свободное комбинирование искажает не только логику, но и «свободную фантазию». Сейчас это представляется уже почти невозможным, но ещё в XIX в. было вполне живым впечатлением: когда человек начинал фантазировать, ему было очевидно, что некий элемент фантазии притягивает другие, что фантазия, хоть и произвольна, имеет дело с целостными образами. Следуя свободному полёту воображения, человек как бы улавливает след образа, а потом, если пробиваться к источнику этого образа, можно к нему прийти – получить закономерно выстроенный образ, который сначала дал о себе знать лишь слабым следом. Сейчас это считается выдумкой – свободное комбинирование всего со всем не ведёт к целому образу, состоящему из закономерно связанных черт, фантазия считается свободной именно потому, что сочетаться может всё со всем – и потому фантазия бесплодна. Если прежде можно было указать на определённое свойство и попросить достроить образ до целого, то сейчас это обычно вызывает недоумение – любое свойство может сочетаться с чем угодно, если не сказано, как и с чем сочетать – как же можно выполнить такое упражнение?
Оккультура развивается обычной повседневной практикой – компьютерной. Если представить «механическую» цивилизацию XIX в., повседневная практика работы с сопряжёнными колёсами, рычагами и т. п. порождает операциональное механическое мышление, инженерное мышление, поиск причин и закона взаимодействия элементов. Сейчас повседневный опыт всё в большей степени состоит в пользовании «кнопочными интерфейсами», где никакой логики и механической рациональности нет – там имеется чистый произвол дизайнера, в большинстве случаев нельзя в сложном интерфейсе ничего «понять», и логика действий иная: надо ткнуть, попробовать и посмотреть, что получится, если что-то нужное – запомнить. Действия путём проб и ошибок, не допускающие перехода к законам и логике ведут к тому, что называется «магическим мышлением». Оказывается ослабленным представление о законах природы, значительное место занимает убеждённость, что никаких законов нет, есть произвол, который, однако, повторяется, можно его заучить и использовать. Компьютерный интерфейс является источником оккультуры – как любое распространённое бытовое приспособление, он диктует пользователю свои методы общения с действительностью.
Все эти проблемы имеют корни вовсе не на уровне университета, высшего образования. Оккультура – это не элитная культура, это именно повседневная культура больших масс людей, то, что приходит само, впитывается из умолчаний окружения. Это проблема, проявляющаяся в старших классах и в высшей школе, возникает ещё в дошкольном обучении и в начальной школе. Прежде дошкольное образование происходило прежде всего в семье, и традиции прежней культуры бессознательно встраивались в мышление и чувствование детей. Затем родители стали иными, оккультура проникла вплоть до детского возраста и дети перестали получать «естественную» прививку «нормального» мышления (мышления, нормального для прежней культурной ситуации). Начальная школа практически не умеет работать в этом направлении, в ней «зашито», что мышление учеников «уже» нормальное, сформированное – и потому лишь добавляет многочисленные ошибки своих программ и методик. Происходит разрушение привычных навыков мышления и формирование нового мышления, соответствующего оккультуре. Разумеется, речь не о физической невозможности никому мыслить «нормально», а только о влиянии, которое оказывается на большинство людей. Тех, кто может противостоять такому влиянию – очень немного.