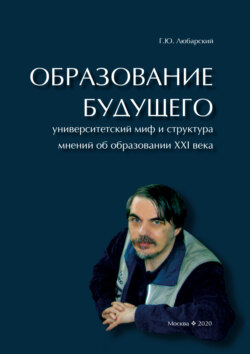Читать книгу Образование будущего. Университетский миф и структура мнений об образовании XXI века - Г. Ю. Любарский, И. Я. Павлинов - Страница 23
Часть I. Старое платье короля
Университет: корпорация – государственный институт – фирма
Становление немецкого государственного университета: как барон Мюнхгаузен основал Гёттингенский университет
ОглавлениеНемецкие университеты XVIII в. находились в упадке, это были бледные тени замечательных университетов Средневековья. Маленькие корпорации профессоров сделали из университетов доходные лавочки, где торговали знаниями и дипломами. Многие сознавали упадок университетов, но не могли придумать средство изменить ситуацию. Когда отрасль в упадке, кажется, что ничего невозможно изменить. Частные связи профессоров и блат приводили к падению качества обучения, вследствие этого уменьшался престиж и спрос на образование. Снижение спроса вело к обеднению университетов и усиленной экономии. Надо было делать новый университет – как же это делать?
Первым в реформационном ряду университетов стоит университет в городе Галле (основан в 1694 г.), в курфюршестве Бранденбург. Бранденбургскому курфюрсту (Фридриху III) требовались образованные пасторы. В его княжестве поддаными были и лютеране, и кальвинисты. Курфюрсту требовалось примирение религий, ему нужен был университет в качестве социального института, утверждающего религиозный мир, религиозно-нейтрального института. Чтобы университет не разорвали склоки, был установлен государственный патронаж над университетом и провозглашена политика веротерпимости.
Галльский университет финансировался преимущественно из государственной казны, и проводимая курфюрстом политика пользовалась большим уважением в университете, который стал образцом веротерпимости. Поскольку университет почти целиком оплачивал король, профессорская корпорация старалась следовать пожеланиям монарха. В университете возник дух толерантности и взаимоуважения учёных. Преподавание шло на немецком языке: в Галльском университете впервые среди всех немецких университетов отказались от чтения лекций исключительно на латыни. Новый университет находился под патронажем государства, отличался веротерпимостью, рационализмом, профессора действовали в духе Просвещения. Возникал новый образ профессора, не педанта, монаха, затворника, а светски воспитанного человека, учёного новой формации. Чтобы такой образ профессора поддерживать, заботу о пополнении профессорского состава взяло на себя государство: профессора в университет попадали не по родственным связям и знакомству, их отбирало правительство, их кандидатуры проходили одобрение курфюрста. За это профессора получали от правительства доходы, оборудование, книги. Это был первый шаг: инициатива монарха, вызванная политической необходимостью.
И вот следующем, после университета в Галле, в ряду реформируемых университетов стал университет Ганновера: Гёттингенский (основан в 1737 г.). Ему покровительствовал курфюрст Ганновера (Георг II). Конкретной организацией проекта нового типа университета занимался барон Мюнхгаузен (барон Герлах Адольф фон Мюнхгаузен, 1688–1770). Он делал университет буквально вручную: занялся преобразованием и развитием университета в курфюршестве Ганновер (Гёттингенский университет). Основная идея проекта – соединение свободной духовной жизни (свобода научного исследования и свободной мысли) с властью государства: государственным финансированием и бюрократическим управлением. Именно это сделал Мюнхгаузен: создал для университета устав нового образца, лично подбирал профессуру, озаботился ясной формулировкой ведущих идей.
Мюнхгаузен усугубил достоинства Галльского университета (он был его выпускником и прекрасно понимал его дух) и сделал их необходимыми чертами нового типа университета. Принципами Мюнхгаузена были терпимость и взаимоуважение ученых (чрезвычайно важный принцип для Германии, в которой соперничали множество видов религиозных воззрений). Из этой терпимости возникло принципиальное положение: представление о свободе научного поиска. Эта свобода была нужна прежде всего не «физикам», а богословам, гуманитариям. Они находились в ситуации недавно закончившейся религиозной войны, богословские споры были очень острыми, и в этой ситуации чрезвычайно важно было объявить о свободе научного поиска, которая была гарантирована профессорам со стороны государства.
Гёттингенский университет представляет собой отдельный этап преобразования средневековых университетов, этап модернизации старинного социального института. Гёттингенский университет стал образцом, который потом перенимался другими университетами, это ступенька на пути к реформам Гумбольдта и становления в самом начале XIX в. немецкой модели университета, из которой потом выросло доминирование немецкой науки – она обогнала конкурентов и на сто лет стала лучшей в Европе (и мире, конечно).
Прежние университеты попали в корпоративную ловушку: они торговали образовательными услугами и относились к делу как порядочные торговцы: продать подороже, самим по возможности не утруждаясь. Корпорация замыкалась, профессорами становились по наследству, совсем не самые талантливые, конкуренция шла между кланами, а не между талантами, качество продаваемого товара снижалось. Внимание корпорации преподавателей было обращено к источникам доходов университета, к управлению финансами, а к процессу обучения относились как к дополнительной нагрузке.
Выход из корпоративной ловушки Мюнхгаузен нашел в том, чтобы отдать университеты во власть государства, и тем самым избавить университет от хозяйственных забот, пресечь склоки профессоров, передав вопросы назначения новых членов корпорации в руки государственных чиновников, и оставив профессорам только собственно учебный процесс. При этом подразумевалось, что чиновники не пытаются вникать в содержательную сторону обучения наукам, так что профессор освобождён от забот о собственности университета и свободен как деятель науки и образования, он получает оклад как государственный чиновник и при этом занимается культурным строительством. Университет расплачивается своей собственностью и автономией, и именно такое урезание свобод ведёт к увеличению свободы – так как «хороший» профессор и не должен отвлекаться на заботы о власти и собственности, а должен заниматься наукой и учить студентов. Свобода хозяйственной единицы и правовая автономность были обменены на свободу культуры. Иначе говоря, был осуществлен важный принцип: доходы в области культуры являются дарами из других общественных сфер. Культурная сфера не должна торговать своими услугами, она должна получать необходимые средства в дар – и даром создавать для общества культурных людей.
Так была выстроена эта модель, очень остроумная модель баланса сил: университеты пошли под власть государства, а государству хватило ума контролировать не всё, оставляя множество университетских свобод. Государству отдавались заботы о содержании университета, университет за это был совершенно лоялен и выпускал государственных чиновников высокого качества. Это была модель XVIII в., тогда государство было на подъёме, и выигрывали те, кто мог с ним договориться. Эта модель действовала в XVIII в., но это не было универсальным рецептом – в другое время и в другой стране игра с государством закончилась бы иначе.
Мюнхгаузен придумал социальный институт удивительной формы, это получилось у него в силу уникальных политических обстоятельств. Курфюрст Ганновера Георг I в 1714 г. стал королём Великобритании. Это былаличная уния, связавшая два эти государства – великую державу и небольшое курфюршество. Зато у курфюршества появились деньги, благодаря доступу к британской казне можно было щедро оплачивать университет. В университете учились английские принцы, многие знатные особы пытались пристроить в университет своих детей. В результате получился очень престижный и богатый университет. Профессора, получая щедрую плату, не жалели об утраченной хозяйственной автономии университета, чиновники курфюршества почтительно не вмешивались в дела королевского детища, замечательного университета. Мюнхгаузен создал химеру, скрестил эти две половинки, университет и государство, создав социальный институт оригинальной породы, и смело поехал вперёд.
А сейчас разумно сильнее интегрировать университет с государством? Такие опыты проделывались много раз, и результат был неутешительный. Кажется, Мюнхгаузену в его селекции социоматов помогло ещё одно обстоятельство, кроме доступа к казначейству Великобритании. Ганновер был маленьким курфюршеством, маленьким государством.
Существует пропорция между долей государственного влияния в обустройстве университета и размером государства. Чем меньше государство, тем больше возможная его доля в управлении университетом. Чем меньше государство, в котором находится университет, тем большей долей автономии университет может пожертвовать, сохраняя плодотворность. В большом государстве с сильной бюрократией и тенденцией к унификации, университет должен, напротив, сохранять больше автономии, иначе его задушат параграфами единого управления. Причина проста – университет является организацией из сферы культуры, а не из сферы права и власти. Управление, привычное для государственной сферы, его губит. В маленьком государстве, где эти властные влияния слабы, университет может сохраниться в качестве культурного центра, особенно если находятся люди, стремящиеся ему в этом помочь и усмиряющие поползновения власти.
То есть в маленьком государстве личное влияние того или иного покровителя может снять пагубное влияние, исходящее из сферы государства – ненужный контроль, унификацию, бюрократизацию. В большом государстве силы унификации неизмеримо сильнее, и университет, если не может вырваться из-под власти государства, превращается просто в ещё одно «управление», быстро теряя свою культурную и образовательную значимость. В пределе, государство авторитарное или тоталитарное должно для вменяемого развития иметь почти полностью автономные университеты, а вот небольшие государства со «слабой» властью могут иметь почти полностью государственные университеты.
Как уже говорилось, наука Нового времени зародилась вне университетов, средневековые университеты не приняли нового формата получения знания – они были слишком ригидными, слишком устоявшимися. Они зарабатывали деньги привычными образовательными программами – зачем им было рисковать, принимаясь реализовывать непроверенные философские рассуждения? Университет был корпорацией профессоров, связанных родственными отношениями, управление финансами и хозяйством тоже было делом корпорации профессоров, в результате из года в год и из века в век преподавание не слишком менялось, возможности внести нечто новое в университетские привычки были невелики.
История о том, как университеты смогли превозмочь свою погружённость в экономическую сферу, избавиться от представления о преподавании как об оплачиваемой услуге, смогли встать во главе научного движения, стать истинно научным социальным институтом, – это и есть история модернизации университета, один из первых шагов в которой сделал Мюнхгаузен. Это изменение строения университетов и их роли в обществе произошло в связи со становлением абсолютизма в немецких княжествах и королевствах. Государство желало получить людей (государственных служащих) и славу: образованные чиновники лучше служили делам государства, слава университета привлекала учащихся в данное государство. Благодаря заинтересованности государства старинная университетская корпорация стала приобретать новые черты.
Мюнхгаузен лично подбирал кадры, приглашал знаменитых профессоров на кафедры университета. Он действовал вне личных связей и обязательств профессорской корпорации, приглашал лучших учёных в данной области. Их привлекала свобода исследований, благосклонность монарха и куратора, богатая библиотека, замечательное лабораторное оборудование и хороший заработок. Тем самым Мюнхгаузен первым создал уникальный для немецкой культурной жизни синтез: соединил центр культурной жизни (университет) и государство, причём именно таким образом, что университет был подчинён государству. Сделано это было деликатно, государство не вмешивалось в дела учёных, однако именно чиновники утверждали профессоров на кафедрах, отпускали университету средства и т. п. Профессора были освобождены от хозяйственных забот, не они теперь решали, чей племянник должен наследовать такую-то кафедру – им оставалась научная работа и преподавательские труды. Политика веротерпимости имела продолжение: в Гёттингенском университете «главным» был не богословский факультет, как почти во всех средневековых университетах, а философский факультет, по-старому говоря – факультет приготовишек, первые курсы.
Вслед за славой Университета в Галле вспыхнула слава Гёттингена. Возник особенный «дух университета», любовь к alma mater. Гёттингенцы и через многие годы с удовольствием вспоминали годы учения и готовы были по мере сил помогать родному университету. Между выпускниками возникали дружеские и научные связи, они были объединены уже не хозяйственными делами корпорации, а уважением к науке и её центру, Университету. Ганноверский опыт было не так легко перенять – университет жил на английские деньги, в нём обучались принцы английской королевской семьи, совершенно особые условия в этом университете трудно было «заимствовать». У тех, кто хотел бы скопировать блестящий университет, не было таких денег и такого культурного капитала. И всё-таки подражать старались многие.
Можно ли отыскать в этом социальном изобретении слабые стороны? Да, конечно. Некоторые современники называли Гёттингенский университет финансовой спекуляцией, ведь ганноверское правительство не могло бы содержать такой университет на свои деньги, деньги были английские, тем самым весь блеск университета был обязан сиюминутной игре политических сил. Университет упрекали, что в нём слишком много блеска, в нём легко учиться принцам и знатным юношам, поскольку преподаватели не слишком требовательны, лекционные курсы не образуют связной системы, набрано несколько знаменитых профессоров, и они, не согласуясь между собой, «сияют» со своими знаменитыми курсами, а целостного образования университет не даёт. Очень многое в университете работает на рекламу, с целью привлечь ещё больше богатых иностранных студентов, а истинного служения прогрессу науки нет. Университет ориентирован на привлечение богатых иностранцев, чтобы им легко и приятно было учиться, а потом они уезжают с приятными воспоминаниями – и следствием такой организации преподавания является то, что университет не выпускает нужных государству служащих.
Так что слабых мест было достаточно и Гёттингенский университет у многих вызывал недовольство. Сторонники государственного образования, когда образование мыслится лишь как воспитание подходящих государству инструментов-служащих, ругали вольности Гёттингена, полагая, что министерство должно разработать строго исполняемые программы, неукоснительно преследовать уклонения и получать на выходе из университета стройные ряды марширующих молодых чиновников. Общее благо, которое преследует государство, требует от своих служащих определённой функциональности, и университет есть не более чем точильный камень, созданный для доведения человеческого материала до должной специализации. Благо государства есть высшая ценность по отношению к капризам личных желаний, и надлежит жертвовать склонностями людей ради служения общему благу.
Такому государственному взгляду можно возразить. Это совершенно загадочное дело – образ мышления людей, которые отдают свою свободу высшим ценностям. У человека мало что есть; почти всё, что у него есть – это свобода. Это прежде всего свобода мышления, всё остальное человеку не принадлежит – он не властен в своём теле и своих эмоциях, не властен ни в действиях, ни в желаниях, он может лишь, при достаточном усилии, достичь некоторой свободы в своём мышлении, никаких иных собственных ценностей у него нет. Прочее – случайности судьбы и страсти, сплетение законов, приложенных к пассивному узелку приложения сил.
В обществе властвуют четыре элемента алхимии социума: страсть, власть, изменчивость, податливость. Из них состоит материя социального. Множество людей вообще не имеет отношения к мышлению и не знают о свободе, проживая всю жизнь в заботах телесных или страстных, но вот и те немногие, которое имеют отношение к мышлению, – тоже отдают себя нечеловеческому, например – государству, нации… Удивительно, как легко люди отказываются от свободы, единственного достояния.
Любой социальный институт стоит в скрещении этих сил – внечеловеческих импульсов «общего блага» и личных стремлений к свободе и независимости. То и другое невозможно, то и другое управляет поступками. При создании социального института приходится заботиться об устойчивости, иначе противоборствующие силы просто раздерут новую организацию. В каждый момент сочетание сил иное, и баланс достигается иными средствами. И создание новой социальной машины – Университета Нового времени – шло с большим трудом.
Университетская машина очень трудно создавалась. История средневековых университетов состояла в том, что из приходских школ разновозрастные дети приходили на факультет искусств, а затем восходили в высшие факультеты. Этот средневековый университет начался в XI в. с Болоньи, Парижа и Оксфорда, затем распространялся на северо-восток, в Центральную Европу и потом в восточную, куда добрался только к XVII в. Волна университетов доплеснулась до восточной Европы в то время, когда в центре университеты уже стали вымирать – это был кризис университетов в XVII–XVIII вв. Университеты средневековья – это корпорации, смысл их в том, что это частное дело, объединение людей, и возникли университеты, когда в окружающем социуме было мало властных социоматов, огромных социальных машин, очень многое решалось на личном уровне, между людьми. Университеты договаривались с папами, королями и князьями, получали пожалования и кормления и могли существовать в этом всё ещё человеческом мире.
А Европа к XVII в. становилась всё более государственной и абсолютистской, и университеты вырождались – они теперь находились в совершенно иной среде. Это были реликты средневекового мира корпораций, когда почти всё делалось человеческой активностью, а не силой бюрократической организации. Университеты вымирали, пока не появились идеи их модернизации, встраивания в новый мир государственной бюрократической организованности. Это было условием выживания, – и в то же время это было отказом от идеи университета, он исчезал как организация, относящаяся к сфере культуры. Государства стали поедать университеты, им были нужны совершенно иные организации – для воспитания умелых чиновников.
Выразилось это наиболее чётко во Франции, где революция (1789 г.) убила университеты и породила Grandes ecoles (Большие школы, высшие школы). А в Австрии, например, без всякой революции собственное правительство убивало университеты; согласно австрийской университетской реформе XVIII в. университеты полностью переходили под управление государства, от программ до внутреннего распорядка. И Россия обзавелась университетом именно в это время, когда средневековый университет-корпорация умирал, несовместимый с абсолютистским государством. Это абсолютистское государство было намного слабее современного демократического, в этом смысле демократические государства современности на порядок более абсолютистские, чем монархии раннего Нового времени.
И в это время немцам удалось изобрести классический немецкий университет – потрясающую университетскую машину, которую потом наследовали, заново у себя насаждали англичане и американцы, японцы и китайцы, потому что выяснилось, что эта социальная машина эффективнее, чем то, что может сделать государство собственным государственным разумом. Гёттингенский университет был эфемерным образованием, без прочного фундамента, он важен как этап, потому что на его основе была создана следующая, более совершенная социальная образовательная машина.