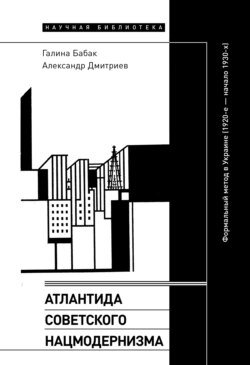Читать книгу Атлантида советского нацмодернизма. Формальный метод в Украине (1920-е – начало 1930-х) - Галина Бабак - Страница 11
Часть вторая
Русский формализм и становление литературной теории в советской Украине в 1920‐е годы
Глава 5. «Как строится рассказ. Анализ прозаических примеров» Майка Йогансена и «О теории прозы» Виктора Шкловского
ОглавлениеТворчество украинского поэта, писателя, критика и, не в последнюю очередь, переводчика и лингвиста Майка Йогансена (1895–1937), одного из деятелей «Расстрелянного Возрождения», является ярким примером культурного трансфера: то, как Йогансен воспринял, использовал и трансформировал формальный метод, можно проследить в его и теоретических работах, и в художественной прозе. Настоящая глава посвящена сравнительному анализу двух теоретических текстов – «О теории прозы» Виктора Шкловского и «Как строится рассказ. Анализ прозаических примеров» Майка Йогансена.
Исследователи отмечают, что художественные, поэтические, и теоретические поиски Йогансена следует рассматривать как органическое целое, где теория и практика дополняют друг друга[491]. Это «единство» будет продемонстрировано на примере анализа романа Йогансена «Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей возлюбленной Альцесты в Слобожанскую Швейцарию» (1930), который представляется важным и интересным как с точки зрения примера формалистской прозы, так и с точки зрения традиции пародийной литературы в до- и послереволюционной Украине и России[492].
Для начала несколько слов об авторе. Как сообщает Йогансен в автобиографии[493], он родился в Харькове в семье учителя немецкого языка Гервасия Йоганнсена (согласно законам украинского правописания Майк оставил в фамилии одно «н»), выходца из Курляндии, и Ганны Крамаревской из рода старобельских казаков. Начальное образование получил дома, потом учился в Третьей мужской гимназии в Харькове (окончил в 1913 году) вместе с будущими поэтами-футуристами Григорием Петниковым, Божидаром[494] и писателем и географом Юрием Платоновым[495]. В истории украинского и русского авангарда Петников – значимая фигура. Он был одновременно близок кругу украинских литераторов и художников – Михаилу Доленго, Максиму Рыльскому, Дмитру Загулу, Михайлю Семенко, Борису Косареву, Александру Белецкому, и среде русских футуристов – Николаю Асееву, Велимиру Хлебникову, Владимиру Маяковскому, Давиду Бурлюку, Божидару, Борису Пастернаку, Елене Гуро[496].
Дружба с Петниковым продлилась до самой гибели Йогансена[497], который также переводил петниковские футуристические стихи на украинский и немецкий языки[498]. В письмах Петникова к Платонову читаем:
Мне вспомнились наши гимназические годы, вступительный экзамен, который я держал в харьковскую 3-ю гимназию – вместе с Мишей Йогансеном – что была на улице тихой, напротив костела, улице Гоголя ‹…›. Как вскоре купили втроем – на паях, экономя на завтраках ‹…› футбольный чудесный мяч (Миша, я, и Юра Платонов, будущий автор «Хмеречи» и других книг), это была новинка тогда, вроде полетов Уточкина, что происходили за городом, возле парка, я вспомнил этот наш футбольный мяч, а потом и бутцы… и гоняли его по каким-то пустырям за Лермонтовской улицей, где стоял и домик кирпичный учителя немецкого языка Гервасия Андреевича (Йогансена)[499].
Добавим, что Петников на рубеже 1910‐х–1920‐х годов был другом и последователем Велимира Хлебникова, который даже передал ему титул Председателя Земного шара. Можно предположить (хотя фактических доказательств этому нет), что Йогансен был близок к кругу авангардистов – Николаю Асееву[500], Хлебникову, Владимиру Маяковскому, сестрам Синяковым. В этот круг также входил украинский художник-конструктивист Василий Ермилов, с которым был дружен поэт Валериан Полищук[501].
В 1917 году Йогансен закончил классическое отделение историко-филологического факультета Харьковского университета, получив степень магистра филологии (специализация – латынь)[502]. Приблизительно в те же годы он учился и на словесном отделении историко-филологического факультета в Полтаве, сдал экзамен, однако диплом не получил. Впоследствии Йогансен с перерывами преподает курс истории украинского языка в ХИНО.
Еще будучи гимназистом, он начал писать стихотворения – на русском и немецком. Однако с 1918 года перешел на украинский язык, решив, что именно так его стихи «выходят более естественными». Позже Йогансен также вспоминал, что в 1918 году он впервые заинтересовался политикой и начал изучать марксизм: «читал Плеханова, Маркса, Энгельса, Каутского, Гильфердинга, а дальше преимущественно Ленина»[503]. Выбор украинского языка, как и политической позиции, был продиктован впечатлением от кровавых расправ белых в Харькове: «Год 1919 – под впечатлением деникинщины – провел резкую линию в мировоззрении: примкнул к марксистскому»[504]. В своих воспоминаниях украинский литературовед Александр Лейтес[505] об этом пишет:
Я спросил его – почему он, владеющий столькими языками, пишет стихи на украинском и только на украинском языке. На это Йогансен ответил, что хотя шкала ценностей языков может быть разной… лучшим языком для каждого становится тот, на котором он лучше всего может выразить самое значительное, что есть в его душе. А таким языком для него, Йогансена, был и остается язык его [родной матери, язык Шевченко и Тычины, больших неисчерпаемых возможностей][506].
В 1921 году были напечатаны его первые стихотворения – в журнале «Шляхи мистецтва», альманахе «Штабель», сборниках «На сполох», «Жовтень»; последний содержал составленный Йогансеном «Универсал к рабочим и пролетарским художникам украинским» (подписанный также Хвылевым и Сосюрой) («Составил манифест для сборника „Жовтень“ („Универсал“) в конструктивистском духе…»[507]). В «Универсале» провозглашалось:
Одинаково отмахиваясь от всяких неоклассиков, которые, подкрасившись красным кармином, кормят пролетариат избитыми формами из прошлых веков, и от жизнетворческих футуристических безбудущников, которые выдают голое разрушение за творчество, и от всяких формалистических школ и течений ‹…›, объявляем эру творческой пролетарской поэзии настоящего будущего ‹…›[508]
Тем не менее в своей автобиографии Йогансен отмечает, что в 1920 году он еще думал примкнуть к футуристам.
В январе 1923 года Йогансен стал одним из основателей Союза пролетарских писателей «Гарт»[509], просуществовавшего до 1925 года[510]. О своем участии в организации Йогансен писал:
Все время находясь в «Гарте», чувствовал ошибочность того взгляда, будто литература «организовывает» людей ‹…›. После развала «Гарта» был одним из основателей ВАПЛИТЕ и находился там вплоть до распада организации, хотя не раз ссорился с ее руководителями, главным образом на тему о роли футуризма; конкретно чуть не вышел из ВАПЛИТЕ вместе со Слисаренко, отстаивая Бажана и Шкурупия[511].
Начиная со второй половины 1920‐х годов, Йогансен уделяет больше внимания прозе. В 1925 году выходят его первые прозаические вещи – сборник рассказов «17 минут» и авантюрный роман «Приключения Мак-Лейстона, Гарри Руперта и других», который стал первым украинским бестселлером. Роман был напечатан под именем вымышленного немецкого прозаика Вилли Вецелиуса и издавался по частям, каждая глава – отдельной книгой[512]. Всего вышло 10 выпусков общим тиражом 100 тысяч экземпляров. В автобиографии Йогансен писал: «И в своих стихах, и в прозе, и в теоретических статьях неуклонно старался поднять украинское слово до европейского уровня»[513].
Майк Йогансен является ярким примером self-made artist, принявшего активное участие в конструировании украинской национальной культуры и идентичности в 1920‐е годы. Будучи русско- и немецкоязычным с рождения, в определенный исторический момент Йогансен, во-первых, сознательно выбирает украинский язык, культуру и литературу и решает стать украинским писателем (в отличие, например, от его современника киевлянина Сигизмунда Кржижановского). Второе – это «марксистская позиция» Йогансена, точнее то, как Йогансен понимал марксизм, и связанное с этим его видение места и роли литературы в обществе (вспомним его цитату об участии в «Гарте»; подробнее этот вопрос рассматривается ниже). В-третьих, обратим здесь внимание на биографические обстоятельства жизни Йогансена: его дружбу с русскими футуристами, знание их творчества[514] и русской литературы в целом. И наконец, Йогансен принимает активное участие в процессе строительства новой революционной украинской культуры, ориентированной на Европу. Этой задаче, собственно, и подчинены все творческие и теоретические поиски писателя. Схожими были и приоритеты мастерства, умения строить жанровые повествования, фабульной техники у российских прозаиков из группы «Серапионовы братья» начала 1920‐х (именно «На Запад!» ориентировал их поиски Лев Лунц), но «серапионы» как раз подчеркивали собственную аполитичность и не раз за это были атакованы напостовской, а потом рапповской критикой.
В работе «Как строится рассказ», которую сам автор называет «практическим руководством для молодых прозаиков», Йогансен пишет: «Наша почти дикарская отсталость в вопросе тектоники фабулы нуждается в хирургических операциях над западной литературой, чтобы облегчить нам продвижение литературной техники»[515]. Эту задачу Йогансен решает и как «просветитель» (вместе с теоретическим анализом книга содержит произведения, переведенные автором с английского), и как теоретик – опыт формальной школы, ее теоретический инструментарий активно используется Йогансеном для анализа западной литературы, чтобы таким образом «повысить уровень» своей национальной словесности. Другими словами, он пытается научить молодых украинских авторов, как быть хорошими писателями. О том, что Йогансен следил за работами русских формалистов, вспоминал Лейтес.
Йогансен внимательно читал почти все выходившие в послеоктябрьском Петрограде работы «опоязовцев». Кое-что в этих работах ему импонировало. Его – образованнейшего филолога и лингвиста – не могло не интересовать любое новое конкретное исследование, посвященное проблемам поэтики и стилистики – будь то украинское или русское, немецкое или английское (на этих языках он читал абсолютно свободно). Беседуя с ним, я неизменно поражался тому, насколько широко и глубоко он осведомлен во всем том, о чем рассуждали и спорили теоретики формальной школы в России, представители экспрессионизма в Германии или деятели «имажизма» в Англии[516].
«Как строится рассказ» состоит из двух частей: в первой («Вступительных замечаниях») Йогансен определяет понятие «искусство», а также дает практические советы авторам в вопросах стиля, приемов, языка, организации материала и т. д. Вторая часть посвящена анализу четырех рассказов, которые сами по себе являются примерами разных поджанров (в терминологии Йогансена): это авантюрный журнальный рассказ английского писателя Джона Барри «Красный Часовой на рифе»; фантастический рассказ Герберта Уэллса «Неопытное привидение»; «новелла из ничего» (как ее обозначает Йогансен) Эдгара По «Это ты!», а также «протокольный рассказ» Тургенева «Касьян с Красивой Мечи».
Книга «Как строится рассказ» была издана в 1928 году, однако отдельные ее части выходили раньше: в первом и втором номерах журнала ВАПЛИТЕ за 1927 год были напечатаны соответственно «Анализ одного журнального рассказа» и «Анализ фантастического рассказа». Теоретический разбор новеллы «Это ты!» Эдгара Алана По послужил впоследствии предисловием к изданию в том же 1928 году избранных произведений По в украинском переводе Йогансена и Бориса Ткаченко[517].
Появление теоретической работы Йогансена вызвало большой резонанс в прессе: в газетах и периодических изданиях было напечатано более десяти рецензий О. Полторацкого, Л. Френкеля, П. Любченко, В. Державина, В. Сухино-Хоменко, И. Ямпольского и других[518]. Такое количество отзывов само по себе свидетельствует о большом интересе украинских критиков и писателей к вопросам стиля и поэтики. Практически все рецензенты отмечают важность и нужность анализа, произведенного Йогансеном, но в то же время почти все они критикуют как сам стиль изложения («ненаучный»), а главное – «ненастоящий» марксизм автора.
Так, И. Ямпольский указывал, что книга сама по себе интересна как «декларация современника, который борется за определенные литературные позиции, т. е. фабульную прозу»[519]. В целом критик делает важное для нашего исследования замечание:
В последние годы, в связи с обострением интереса к поэтике, практические учебники получили у нас большое распространение. Если до революции они охватывали в основном вопросы стихосложения; теперь, когда центр тяжести в текущей литературе сместился, стали появляться также специальные книги, посвященные технике художественной прозы. Среди их основных недостатков – большая вульгаризация и нормативный характер изложения[520].
Ямпольский справедливо указывает на динамику интереса украинских литературоведов к поэтике – от вопросов стихосложения к вопросам техники художественной прозы.
Критик Мирон Степняк в своей рецензии делает еще одно ценное наблюдение: «В целом взгляды автора часто напоминают негативную сторону левого крыла опоязовцев, но отличаются от них постоянным обращением обращением внимания на психологию авторскую и читательскую (последнее, на наш взгляд, неплохо)»[521]. Забегая вперед, скажу, что Степняк справедливо отметил два главных аспекта аналитической части работы: во-первых, он указал на связь теоретических взглядов Йогансена с работами «крайних» формалистов (Шкловского в первую очередь). Во-вторых, он обратил внимание на «психологический» аспект анализа: беря формальный метод за основу, Йогансен творчески его переосмысливает.
Книга Виктора Шкловского «О теории прозы» была издана в 1925 году; в нее вошли отдельные статьи, написанные Шкловским на протяжении 1917–1924 годов. Работу открывает программная статья «Искусство как прием» (1917), в ней были сформулированы главные для русского формализма понятия – прием, остранение и автоматизация. Здесь же Шкловский обозначает главную исходную позицию формальной школы: «Целью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание»[522]. Основное внимание Шкловского сосредоточено на технике построения художественной прозы, начиная от очерка и заканчивая бессюжетной прозой. Главное то, что Шкловский, ставя под сомнение психологизм как основной прием мотивировки действий героя, рассматривает художественное произведение исключительно как набор приемов или техник, которые использует автор в зависимости от жанра и обстоятельств: «Литературное произведение есть чистая форма, оно есть не вещь, не материал, а отношение материалов»[523]. В коротком предисловии Шкловский определяет свое исследование так: «Вся книга посвящена целиком вопросу об изменении литературных форм»[524].
Структура теоретической работы Йогансена напоминает структуру «О теории прозы» Шкловского: это и короткое авторское ироничное предисловие, и «вступительные замечания», где Йогансен дает определение искусству, и аналитическая часть книги, предлагающая анализ англоязычной прозы, сделанный в формалистском духе – с построением схем и отчасти копирующий емкий и стремящийся к объективизму стиль Шкловского. Это дало возможность критикам обвинять Йогансена в «дидактизме» и «назидательности».
О том, что книга «О теории прозы» послужила источником теоретических поисков Йогансена, свидетельствует не только заимствование ее основной терминологии и стиля изложения, но и прямая отсылка к самой работе Шкловского. В первой части исследования «Как строится рассказ» Йогансен аргументирует понятие «остранения» (которое переводит как «поновлення») и пишет: когда автор хочет «вызвать конкретное представление – образ какой-то вещи», он прибегает к двум приемам – сравнению (у Шкловского параллелизм) и остранению. При этом Йогансен объясняет последнее через описание процесса курения и делает следующий вывод: «Таким образом, остранение является попыткой подать вещи в новом аспекте ‹…›. Остранение может выглядеть как наивность, но оно всегда повышает впечатление свежести»[525].
Треть своих «вступительных замечаний» автор посвящает проблеме искусства, которое (в целом, как таковое) он определяет апофатически: это не «метод познания» (потому что неизвестно, каково техническое значение этого познания), это не «один из способов организации» и это не «проявление половой энергии». Йогансен сужает область разговора до роли искусства в процессе производства, утверждая: «искусство в капиталистическом (курсив наш. – Г. Б., А. Д.) обществе есть один из видов развлечения, один из факторов отдыха от работы»[526]. Для того чтобы усилить свой тезис, автор предлагает спросить у рабочего или хлебороба, что больше влияет на их жизнь – «искусство или табак»? Более того, Йогансен иронизирует над А. Богдановым (который понимал искусство как способ организации опыта людей) и пишет об искусстве как о способе «дезорганизации»: «Так вот, искусство (насколько оно влияет вообще) возбуждает эмоциональную сферу и таким образом дезорганизует человека как логическую машину»[527].
Из всего этого Йогансен делает вывод, что во время строительства социализма «настоящее искусство не нужно, потому что оно бы только мешало»[528]. Таким же образом Йогансен ставит под вопрос формулу Г. Плеханова об искусстве как методе познания: «Дело в том, что все внимание и все творческие усилия писателя занимают проблемы подачи материала, а не изобретения его. Если политика интересует содержание событий, то писателя интересует их форма ‹…›. Вся его энергия и внимание направлены на подачу, а не на художественную трактовку этих идей»[529]. Приведенные выше аргументы ироничны по своей сути, особенно если к этому добавить то, что автор пишет в предисловии: «В первой части я знакомлю молодого новеллиста со взглядом на искусство, который я имею слабость считать единственно марксистским»[530].
Единственное определение искусству, которое дает Йогансен, имеет отношение только к роли искусства в капиталистическом обществе. Подтверждение этому находим дальше: «Если мы будем распространять правильный взгляд на искусство как на развлечение, мы, наоборот, сможем использовать всю предыдущую литературу»[531]. В то же время, утверждая «ненужность» искусства в социалистическом обществе, автор обращает внимание на развитие радио и кино, которые «оживили» его: «Искусство, задыхаясь без рынков, ухватилось за антенны и экраны и снова стало на какое-то время массовым, конкурируя даже с табаком»[532]. Таким образом, Йогансен рассматривает искусство как один из видов развлечения, при этом массовость или способность быть массовым здесь играет первостепенную роль. Это во многом объясняет интерес Йогансена (теоретика и писателя) к массовой беллетристике, которая долгое время воспринималась, по словам автора, как низкосортная.
Далее автор переходит к практическим советам «молодым новеллистам». Здесь остановимся на некоторых моментах. В подглавке «Язык и стиль в прозе», словно бы предвосхищая теорию полифонического романа Михаила Бахтина, Йогансен обращает внимание, что в новелле столько языков, сколько в ней действующих лиц: «Действующие лица болтают на всяких языках в зависимости от потребностей фабулы, развития действия и их собственной типизации»[533]. Отдельно он выделяет авторскую речь, которая «организует движение в рассказе». В другой подглавке «Хороший прозаик с плохим языком» Йогансен, подобно формалистам, снимает напряжение между формой и содержанием, обращая внимание, что в литературе все сводится к языку: «И это потому, что в прозе, хотя и не так, как в поэзии, язык является не только средством, но и темой. Сказать, что прозаик пишет плохим языком, значит осудить его как прозаика»[534].
В качестве «рецепта» того, как найти хорошую тему, Йогансен предлагает наклеить обычные фотографии на деревянные кубики, после чего их разбросать и посмотреть на случайную комбинацию, которая может намекать на какую-либо ситуацию или историю. При этом Йогансен отмечает, что истории из жизни могут производить впечатление, только если они будут хорошо сконструированы. Также он советует подбирать действующих лиц по принципу контраста для достижения большей эффектности ситуаций.
Отдельное внимание Йогансен уделяет тому, что Шкловский называет «задержанием» (или отступлением) в новелле. По мнению Шкловского, «задержания» играют три роли: они позволяют вводить в роман новый материал, они тормозят (задерживают) действие, они служат для создания контраста к основному действию[535]. Йогансен также выделяет три функции отступлений: для того чтобы создать иллюзию времени, чтобы заполнить пробелы между событиями, чтобы задержать читателя «возле какой-то точки»[536]. В качестве материала для отступлений Йогансен советует вставлять авторские психологические размышления, выписки и цитаты, а также пейзажи. Что касается первого – психологических размышлений – под этим Йогансен подразумевает шуточные и парадоксальные комментарии: «Если вы, к примеру, напишете в новелле „такие уж эти женщины: они всегда…“ (дальше какой-нибудь глагол), то читатель сразу убедится, что вы психолог»[537]. Как пример «выписок и цитат» Йогансен приводит научные выписки в романах Жюля Верна. Однако если у Йогансена они имеют функцию «заполнения пробелов» между действиями, у Шкловского они играют роль обрамления: «Иногда мы встречаем в рассказах рамочного типа вводные, не анекдоты, а собрание сведений научного характера. Подобным образом внесены в грузинскую „Книгу Мудрости и Лжи“ арифметические задачи, а в романах Жюля Верна справки по научным вопросам и перечисления географических открытий»[538].
И наконец, Йогансен подробно рассматривает функции пейзажей в произведении, которые анализирует на примере рассказа Тургенева «Касьян с Красивой Мечи». Йогансен выделяет две роли пейзажей в произведении: «В целом, ландшафт в прозе играет роль или соответствующей декорации, или декорации контрастной»[539]. У Шкловского читаем: «Может быть два основных случая литературного пейзажа: пейзаж, совпадающий с основным действием, и пейзаж, контрастирующий с ним»[540]. Однако Йогансен идет дальше и выделяет несколько «способов подачи» пейзажа – динамический (который достигается с помощью глагольных форм при описании) и статический. В целом автор делает вывод, что пейзаж наиболее точно отображает личность автора: «Ландшафт есть знакомство с психикой художника в первую очередь – он, следовательно, соотносится с лирикой в литературе»[541]. В то же время Йогансен настаивает на несамостоятельности пейзажа, поскольку в прозе он не может существовать вне персонажа.
И наконец, в отдельной подглавке «Обнажение приема» Йогансен рекомендует автору «раскрывать карты», только если он использовал определенную технику в новелле. Главную же задачу новеллистической техники автор видит в том, чтобы «дать максимум напряжения при чтении». Он отмечает: «…писатель, обнажая прием и раздевая технику, показывает читателю ее старые кости, чтобы ему захотелось другой (курсив наш. – Г. Б., А. Д.)»[542]. Не сложно в подобном утверждении увидеть формалистскую теорию литературной эволюции (см. главу «Пародийный роман» у Шкловского).
Во второй («аналитической») части работы «Как строится рассказ» иная интонация изложения. Если в первой части Йогансен выступает как слегка ироничный, умудренный опытом писатель, дающий советы начинающему автору, то во второй он переходит непосредственно к методичному и вдумчивому разбору короткой прозы.
В качестве примера обратимся к его анализу фантастического рассказа Герберта Уэллса «Неопытное привидение». Вкратце напомним сюжет: приятели проводят в клубе вечер. Один из присутствующих, Клейтон, рассказывает об удивительной истории, которая с ним приключилась прошлой ночью в этих стенах: он познакомился с настоящим привидением. Бедное привидение, по словам Клейтона, забыло один элемент магических пассов и не могло попасть обратно в потусторонний мир. После нескольких неудачных попыток привидение попросило Клейтона зеркально повторить последовательность жестов, обнаружило ошибку и исчезло. Напряжение рассказа усиливается реакцией слушателей – от полного неверия до страха за Клейтона, который решил сейчас, в присутствии друзей, воспроизвести магические пассы.
Один из членов клуба – масон Сандерсон увидел в движениях рук Клейтона нечто, напомнившее ему жест, принятый в обществе «вольных каменщиков». После подсказки Сандерсона Клейтон еще раз повторяет комбинацию магических пассов, которая на этот раз оказывается правильной, и умирает. Рассказ заканчивает ремаркой автора:
Но перенесся ли он туда с помощью чар бедного духа или же его поразил апоплексический удар в середине веселого рассказа, как убеждало нас судебное следствие, не мне судить. Это одна из тех необъяснимых загадок, коим надлежит оставаться неразрешенными, пока не придет окончательное разрешение всего. Я знаю только одно: что в ту минуту, в то самое мгновение, когда он завершил свои пассы, он вдруг изменился в лице, покачнулся и упал у нас на глазах – мертвый[543]!
А теперь воспроизведем логику формалистского анализа Йогансена. Он выделяет два типа мотивировки – структурную и психологическую. Структурная (или механическая; она эквивалентна понятию мотивировки у Шкловского) служит для упорядочивания последовательности событий и формирования их причинно-следственной связи. Психологическая (моральная), по словам автора, «оправдывает психологические поступки героя или же оправдывает морально самого героя перед читателем»[544]. Йогансен пишет, что в рассказе Уэллса структурная мотивировка основывается на «науке», психологическая – опирается на поверья и страхи. Главным действующим лицом рассказа, по мнению автора, являются сами магические жесты. Это дает ему возможность определить жанр рассказа как научно-фантастический, поскольку главный сюжет сводится к вопросу, «могут ли существовать такие магические способы, с помощью которых человек может переселиться по ту сторону, умереть»[545].
В качестве двух основных организующих приемов Йогансен выделяет параллелизм и контрастное противопоставление «лжи» Клейтона правдивости автора-рассказчика (контрастная мотивировка по принципу «ложь – правда»). Контрастная мотивировка служит, по мнению Йогансена, для того чтобы запутать читателя, который до последнего верит рассказчику (не выдумал ли это все Клейтон?). Йогансен последовательно перечисляет примеры развертывания этого мотива в произведении (к примеру, он говорит, что Уэллс играет с традиционным представлением об обстановке, где обычно изображаются привидения: в комнате с дубовой обшивкой стен – oak panelling).
Йогансен замечает, что сама фабула рассказа единообразна, поэтому для создания объемности (и правдоподобности) автор прибегает к параллелизму. История о магических жестах Клейтона могла бы быть ложью, не узнай Сандерсон одно из движений. Таким образом «фантастическое» и реальное образуют параллель. Йогансен подчеркивает, что параллелизм в рассказе автор усиливает разницей: «дух исчезает с глаз, Клейтон умирает», что заставляет читателя убедиться в правдивости рассказанной истории.
Прием параллелизма хорошо описан у Шкловского в разделе «Роман тайн» на примере анализа произведения Ч. Диккенса «Крошка Доррит». Шкловский отмечает: «Характерно для типа „тайны“ родство с приемом инверсии, т. е. перестановки. Самым обычным типом тайны в романе является рассказ о предшествующем постановлении после изложения настоящего. Здесь тайна достигнута способом изложения. Метафорический ряд и ряд фактический образуют параллель»[546].
Йогансен указывает, что пара Клейтон – привидение служит для мотивировки появления главного героя – магических пассов. Забывчивость привидения мотивируется в произведении историей реально жившего человека, чей портрет дан очень реалистично. Здесь главное, что в жизни этот человек был неудачником, поэтому читателя не удивляет, что его дух (привидение) мог забыть пассы. При этом Йогансен отмечает, что мотивировка с забывчивостью необходима, чтобы пассы увидел и повторил Клейтон.
Йогансен предлагает в случае рассказа Уэллса самим читателям сделать «моральный вывод» (поскольку как таковой морали в произведении нет); этот вывод мог бы звучать так – «не нужно шутить с духами»[547].
Этим, по мнению Йогансена, можно было бы закончить анализ произведения, однако «кто-то скажет, где же идеологическая критика?»[548] В этом месте Йогансен делает сноску, в которой читаем: «Нужно раз и навсегда условиться, позволяет ли марксизм делать анализ техники (выделение автора. – Г. Б., А. Д.) художественных произведений или, возможно, анализировать технику есть контрреволюция, а можно анализировать только смысл? И в других отраслях: можно рассказывать об „эксплуатации железных дорог“, а может быть, можно только об эксплуатации трудящихся. Я решительно отмежевываюсь от опоязовского формализма (курсив наш. – Г. Б., А. Д.), который не позволяет делать анализ социологический. Я так же решительно отмежевываюсь от такого „марксизма“, который не позволяет анализировать саму технику в специальных статьях о технике. Я считаю, что это не марксизм ‹…›, а умственная дефективность»[549].
Однако на следующих двух страницах никакого «идеологического» анализа не приводится. Сначала Йогансен иронизирует и даже высмеивает «марксистский» метод, который он называет «кислокапустным»: «Сидят приятели в клубе, буржуазном, очевидно. Говорят не о профдвижении, а о духах (опиум для народа). Для масс такой рассказ ненужный и вредный»[550]. После чего автор заключает, что мировоззрение автора «выявляется старательной аналитической работой над всеми его произведениями и современным ему творчеством других [авторов]»[551].
В заключение Йогансен пишет:
Для того чтобы повысить художественную квалификацию писателей, нужен в первую очередь анализ техники произведений. Для того чтобы повысить философскую квалификацию писателей, нужны в первую очередь ‹…› исторический материализм, история революций, политическая экономия, рефлексология ‹…› и в последнюю очередь анализ содержания художественных произведений как небольшое вспомогательное средство философского характера[552].
Как уже отмечалось выше, источником работы Йогансена послужил текст Шкловского «О теории прозы». И само название работы Йогансена, и использование теоретического аппарата формальной школы, и стиль изложения, и применение формального метода к анализу прозы свидетельствуют о попытке автора создать теоретическую базу для исследования украинской литературы. Одновременно все это прямо связано с попыткой научить автора-дебютанта технике художественной прозы и таким образом повысить уровень своей национальной словесности.
Здесь важно отметить, что применение Йогансеном формального метода к англо- и русскоязычной короткой прозе доказывает универсалистский принцип формального анализа. Однако Йогансен использует формальный метод не механически, а творчески его переосмысляет, расширяя как его понятийную базу (выделение разного типа пейзажей, введение структурной и психологической мотивировок и т. д.), так и его методологические рамки (психологическая мотивировка как попытка расширить границы метода).
491
Мельників Р. Людина з «химерним йменням» // Йогансен М. Вибрані твори / Упоряд. Р. Мельників. 2-ге вид., доп. К.: Смолоскип, 2009. С. 16.
492
Вопрос влияния работ Шкловского на Йогансена уже рассматривался в работах Я. Цимбал, А. Белой, Г. Гринь, однако эта проблема не ставилась ими в более широкий контекст – истории литературной пародии в русской (и отчасти украинской) литературе: Цимбал Я. Творчість Майка Йогансена в контексті українського авангарду 20–30‐х років ХХ ст.: Дис. … канд. філол. наук. К., 2003; Біла А. Український літературний авангард. К.: Смолоскип, 2006. С. 215–238 (глава «Від „конструктивної лірики“ до конструктивістської прози»); Hryn H. Iohansen’s Journeys: Ukraine’s First Formalist Novel // Harvard Ukrainian Studies: Part 1. 2011–2014. Vol. 32–33. P. 377–393.
493
Йогансен М. Вибрані твори / Упоряд. Р. Мельників. К.: Смолоскип, 2009.
494
См. подробнее о Божидаре в главе «Борис Якубский „Наука стихосложения“».
495
См. подробнее об этом: Тимиргазин А. «Сделав большой круг, я опять возвращаюсь…». К биографии писателя-географа Юрия Гавриловича Платонова // Collegium. 2016. № 1. С. 219–235.
496
См. подробнее: Тимиргазин А. Узорник ветровых событий: поэт Григорий Николаевич Петников. Феодосия; М., 2019.
497
См. подробнее: Цимбал Я. «Служили два товарища»: Майк Йогансен і Григорій Петніков // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України: Зб. наук. праць / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. К., 2004. Вип. 5. С. 121–126.
498
Из сообщений журнала «Червоный шлях» за 1928 год можно узнать, что Государственное издательство Украины заключило с Петниковым и Йогансеном договор на издание «Антологии новейшей немецкой поэзии». См.: Хроніка // Червоний шлях. 1928. № 12. С. 212.
499
Цит. по: Тимиргазин А. «Сделав большой круг, я опять возвращаюсь…»: К биографии писателя-географа Юрия Гавриловича Платонова // Collegium. 2016. № 1. С. 220.
500
Николай Асеев окончил историко-филологическое отделение Харьковского университета в 1913 году.
501
В этом контексте отдельное внимание стоит уделить сборнику «Радиус авангардовцев», который был издан в Харькове в 1928 году. Сборник объединил авторов – представителей русской секции конструктивистской литературной группы В. Полищука «Авангард», основанной в 1926 году (туда входили Метер, Октябрев, Корецкий, Санович, Троянкер). Также в сборнике впервые напечатаны два стихотворения Хлебникова «Современность» и «Единая книга», «которые были написаны в 1920 году на квартире художника Василия Ермилова, с которым Хлебников дружил», как отмечалось в публикации. Сборник содержал также статью В. Полищука «Что и как и почему» и отрывок «Из прокламации „Авангарда“». Книгу оформил В. Ермилов, который также был членом «Авангарда». См. подробнее об этом: Бабак Г. Валериан Полищук и украинский «Авангард» 1920‐х годов // Рема. Rhema. 2020. № 4. С. 191–213.
502
Защитил дипломную работу под названием «Ablativus absolutus и другие самостоятельные падежи в латинском и греческом языках».
503
Йогансен М. Вибрані твори. С. 712.
504
Лейтес А., Яшек М. Десять років української літератури (1917–1927). Харків: ДВУ, 1928. Т. 1. С. 195.
505
Александр Лейтес (1901–1976) – историк литературы и критик. Окончил историко-филологическое отделение ХИНО (1922), ученик А. И. Белецкого. Был членом «Гарта», ВАПЛИТЕ, ВУСПП. Вместе с библиографом Миколой Яшеком подготовил трехтомный библиографический справочник «Десять лет украинской литературы (1917–1927)». Первый и второй тома вышли в 1928 году, третий том так и не был издан. В начале 1930‐х переехал в Москву. Автор ряда работ по украинской и западной литературе. См. также с. 669 наст. изд.
506
Лейтес А. Воспоминания о М. Г. Йогансене. 1970‐е // РГАЛИ. Ф. 2899. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 11. См. приложение к книге.
507
Йогансен М. Вибрані твори. С. 715.
508
Хвильовий М., Сосюра В., Йогансен М. Наш універсал // Жовтень. Харків, 1921. С. 1–2.
509
«Гарт» – одна из наиболее многочисленных и влиятельных литературных организаций 1920‐х годов. Основана в 1923 году писателем Василием Элланом-Блакитным. Целью организации было объединение украинских пролетарских писателей и создание коммунистической украинской культуры. В организацию входили Майк Йогансен, Микола Хвылевой, Владимир Сосюра, Павло Тычина, Валериан Полищук, Микола Кулиш, режиссер Александр Довженко, критики Владимир Коряк, Иван Кулик и др.
510
Літературно-мистецька хроніка. Спілка пролетарських письменників «Гарт» // Червоний шлях. 1923. № 1. С. 250.
511
Йогансен М. Вибрані твори. С. 721.
512
См. об этом феномене и Йогансене: Маликова М. Э. Халтуроведение: советский псевдопереводной роман периода НЭПа // Новое литературное обозрение. 2010. № 3 (103). С. 109–139; Романенко О. В. Художественная интерпретация пинкертоновских мотивов в литературной мистификации Майка Йогансена // Вестник Воронежского госуниверситета Серия: Филология. Журналистика. 2014. № 1. С. 84–90.
513
Йогансен М. Вибрані твори. С. 722.
514
В рецензии 1923 года на стихи Гео Шкурупия Йогансен писал: «Итак, рассматривать произведения Шкурупия придется отдельно от теорий панфутуризма. Нам случалось уже отмечать, что деструкция панфутуристов, их разрушение искусства не так страшны, как они их рисуют. Они отстают по сравнению с московскими футуристами в этом деле. Действительно, что могут своего выдвинуть панфутуристы против такого расклада искусства: е у ы / и а о / о а. (Крученых, „Вселенский язык“)» (Шкурупій Ґ. Вибрані твори / Упор. О. Пуніна, О. Соловей. К.: Смолоскип, 2013. С. 778).
515
Йогансен М. Вибрані твори. С. 638.
516
Лейтес А. Воспоминания о М. Г. Йогансене. 1970‐е // РГАЛИ. Ф. 2899. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 5. См. с. 675 наст. изд.
517
По Е. А. Вибрані твори / Пер. з англ. М. Йогансен та Б. Ткаченко. Харків: ДВУ, 1928. См. также рецензию Владимира Державина на книгу: Державин В. Рец.: По Едгар Алан. Вибрані твори. Пер. з англ. М. Йогансен та Б. Ткаченко. Харків: ДВУ, 1928 // Критика. 1928. № 7. С. 146–148.
518
Карацупа В. Полная библиография Йогансена: http://archivsf.narod.ru/1895/mike_yogansen/index.htm.
519
Ямпольський І. Рец.: Йогансен М. Як будується оповідання. Харків: Книгоспілка, 1928 // Життя й революція. 1928. № 9. С. 188.
520
Там же. См. о Ямпольском, ученике Б. Якубского, на с. 687 наст. изд.
521
Степняк М. Рец.: Йогансен М. Як будується оповідання. Харків: Книгоспілка, 1928 // Червоний шлях. 1928. № 4. С. 224.
522
Шкловский В. Собр. соч. М.: Новое литературное обозрение, 2018. Т. 1: Революция / Сост., вступ. ст. И. Калинина. С. 256.
523
Шкловский В. О теории прозы. М.: Федерация, 1929. С. 226.
524
Там же. С. 6.
525
Йогансен М. Вибрані твори. С. 570.
526
Там же. С. 553.
527
Там же. С. 555.
528
Там же.
529
Там же. С. 557.
530
Там же. С. 550.
531
Там же. С. 585.
532
Йогансен М. Вибрані твори. С. 561.
533
Там же. С. 565.
534
Там же. С. 567.
535
Шкловский В. О теории прозы. С. 230–231.
536
Йогансен М. Вибрані твори. С. 581.
537
Там же. С. 582.
538
Шкловский В. О теории прозы. С. 123.
539
Йогансен М. Вибрані твори. С. 655.
540
Шкловский В. О теории прозы. С. 237.
541
Йогансен М. Вибрані твори. С. 661.
542
Там же. С. 583.
543
Уэллс Г. Неопытное привидение // Уэллс Г. Рассказы / Пер. с англ. Ю. И. Кагарлицкого. М.: Правда, 1983. С. 297.
544
Йогансен М. Вибрані твори. С. 626.
545
Йогансен М. Вибрані твори. С. 627.
546
Шкловский В. О теории прозы. С. 151.
547
Йогансен М. Вибрані твори. С. 639.
548
Там же. С. 636.
549
Там же.
550
Йогансен М. Вибрані твори. С. 636.
551
Там же. С. 639.
552
Там же. С. 640.