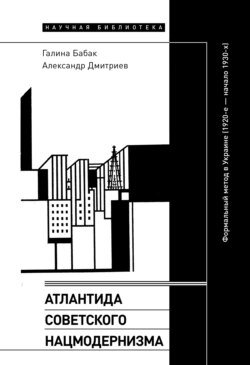Читать книгу Атлантида советского нацмодернизма. Формальный метод в Украине (1920-е – начало 1930-х) - Галина Бабак - Страница 12
Часть вторая
Русский формализм и становление литературной теории в советской Украине в 1920‐е годы
Глава 6. «Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей возлюбленной альцесты в слобожанскую Швейцарию» Майка Йогансена как пример формалистской прозы
ОглавлениеСвои теоретические разработки (как серьезные, так и довольно шутливые) Йогансен применял и в собственной прозе. Его роман «Путешествие ученого доктора Леонардо и его будущей возлюбленной Альцесты в Слобожанскую Швейцарию» (1928–1929) – один из самых удивительных примеров украинского модернизма; в нем обнаруживаются многие приемы и подходы, характерные для некоторых советских писателей этого десятилетия (но разработанные еще до революции). Роман также является практическим воплощением теоретических поисков Йогансена второй половины 1920‐х годов. Эту книгу можно считать своего рода итогом развития определенных направлений русской и украинской литературной теории и прозы заканчивающегося десятилетия.
Стилизация и пародия – два главных приема, на которых строится эта вещь Йогансена. Как известно, стилизация и пародия существуют чуть ли не с самого начала литературы. Вопросу изучения их взаимосвязи посвящено и несколько работ формалистов. Так, к примеру, Юрий Тынянов отмечал:
Стилизация близка к пародии. И та и другая живут двойною жизнью: за планом произведения стоит другой план, стилизуемый или пародируемый. Но в пародии обязательна невязка обоих планов, смещение их. ‹…› При стилизации этой невязки нет, есть, напротив, соответствие друг другу обоих планов: стилизующего и сквозящего в нем стилизуемого. Но все же от стилизации к пародии – один шаг; стилизация, комически мотивированная или подчеркнутая, становится пародией[553].
Здесь излишне давать исторический очерк этих жанров. Отметим лишь, что в разные историко-культурные эпохи и в разных культурах они играли разную роль[554]. Те разновидности пародии и стилизации, которые близки Йогансену, появились в XVII веке (прежде всего барочная проза, берущая начало от «Дон-Кихота»). Свое мощное современное развитие оба жанра получили с появлением и развитием модернизма (особенно той его части, которую – очень условно – можно назвать поздним романтизмом). Для этой культурной эпохи, начавшейся в середине XIX века, пик которой пришелся на рубеж XIX–XX веков, стилизация и пародия представляют собой важные точки художественного мышления[555]. Новый господствующий класс – буржуазия, новое общество, его вкусы, привычки и ритуалы – все это становится объектом художественной критики (в частности, пародирования), а стилизация под ушедшие культурные эпохи предоставляла возможность писателям «уйти» от неприглядной реальности, поставив ее тем самым под вопрос. Именно поэтому, если говорить о литературе, пародия, стилизация и критический реализм могут вполне естественно сочетаться в творчестве одного писателя. В качестве примера можно привести Гюстава Флобера, автора ультраромантической стилизации «Саламбо», шедевра критического реализма «Госпожа Бовари» и стопроцентно пародийной (неоконченной) вещи «Бувар и Пекюше».
В русскую модернистскую литературу стилизация проникла благодаря символистам (к примеру, «Египетские ночи» Валерия Брюсова) и акмеистам, но настоящим мэтром стилизации, автором, который отчасти построил на ней свою поэтику, был Михаил Кузмин. Влияние фигуры Кузмина, стоявшего несколько в стороне от основных литературных течений предреволюционного периода, автора самых разнообразных в жанровом отношении сочинений, порой радикальных как по содержанию («Крылья»), так и по художественным приемам, оказалось мощным и продолжительным[556]. Это касается не только «круга Кузмина» (Юрий Юркун, Сергей Ауслендер), но и некоторых писателей и поэтов, появившихся в литературе после революции и Гражданской войны. Здесь следует отметить прежде всего Константина Вагинова. Можно с почти полной уверенностью утверждать, что Йогансен хорошо знал тексты Кузмина 1910‐х годов, особенно его стилизаторскую прозу («Подвиги Великого Александра», «Путешествие сэра Джона Фирфакса»). Не будет преувеличением предполагать знакомство Йогансена с прозой Кржижановского и с меньшей уверенностью – Вагинова[557].
Пародия вырастает из стилизации. Соответственно любая стилизация эпохи модернизма, создавая некоторую дистанцию между стилизуемым текстом и автором-стилизатором, уже в основе своей имеет несколько комический оттенок. Однако не все стилизации являются пародиями; у этих двух жанров, в конце концов, разные цели. В советские 1920‐е годы литературная стилизация была нацелена, с одной стороны, на создание нового типа повествования – антипсихологического, более соответствующего призывам к популяризации литературы, с другой – на демонстрацию условности литературы, ее «литературности». Обе эти черты лежат в основе художественного метода, с помощью которого «сделан» роман «Путешествие ученого доктора Леонардо…». Во-первых, необычный травелог Йогансена демонстрирует условность литературы, во-вторых, обнажает художественные приемы, из которых он состоит, и в-третьих, он нацелен на то, чтобы «расчистить поле» от «старой» психологической прозы для новой популярной литературы социалистического общества.
В отношении последнего пункта заметим также, что в украинском контексте эта новая литература, по мнению автора, должна быть как национальной («Слобожанская» в названии), так и европейской («Швейцария» там же). Иными словами, уже в заглавии автор намекает на идею, ради которой написана эта вещь.
Прежде чем приступить к анализу самого романа, отметим также, что это было уже не первое масштабное стилизаторски-пародийное сочинение, написанное в советском Харькове во второй половине 1920‐х годов. В 1925 году вышла книга под названием «Парнас дыбом», авторами которой были Эстер Паперная, Александр Розенберг, Александр Финкель[558]. Это одно из самых любопытных произведений русскоязычной литературы, написанной в советской Украине в межвоенный период. Книга строится на основании исключительно формального принципа: берется общеизвестный «популярный» сюжет и излагается в стиле известных писателей – от Шекспира и Оскара Уайльда до Маяковского. Одним из таких сюжетов в «Парнасе дыбом» является популярная до сих пор присказка «У попа была собака». Комический эффект достигается столкновением «низкого» и «высокого» литературных стилей. Таким образом, под вопрос ставится сама «литературность» литературы, которая любую мелочь может обратить в тему для словесного шедевра. Иными словами, предполагается, что в литературе главное не «что», а «как»; неудивительно, что «Парнас дыбом» написан в разгар моды на формализм и деятельности конструктивистов. Получается, что эта книга – своего рода двойная пародия: пародия на «литературность» литературы и на тех, кто проповедовал ее (формалисты, конструктивисты). Перед нами своего рода мерцающая пародия, объект которой сложно точно зафиксировать. Именно такой принцип использует Йогансен в своем романе «Путешествие ученого доктора Леонардо…».
Здесь коротко отметим отдельные важные художественные аспекты романа, который представляет собой пародию, совмещающую одновременно элементы рыцарских и авантюрных романов. Несмотря на то, что сам автор в англоязычном эпиграфе и послесловии называет «ландшафт» основным действующим лицом, на самом деле главным персонажем романа является сам литературный «прием», поскольку демонстрация условности литературы находится в центре внимания и автора и читателя. Другими словами, здесь педалируется само строение романа, будто бы он написан специально, чтобы наглядно проиллюстрировать, из чего «сделана» литература. Стоит напомнить также, что художественные травелоги в творчестве формалистов (Шкловского) были и способом развертывания и решения теоретико-литературных проблем на фоне послеимперского политического и культурного пейзажа[559].
Роман состоит из пролога и трех частей («книг»), которые рассказывают о путешествии неких доктора Леонардо и донны Альцесты по Слобожанской Швейцарии – по реке Донец, протекающей в Харьковской области. Йогансен использует прием нескольких сюжетных линий. Первая, данная в прологе, – сюжетная линия испанского «тираноборца» Дона Хосе Перейры, он путешествует вместе со своей собакой Родольфо по херсонским степям и за неумышленное браконьерство его убивают местные «куркули». История Дона Хосе Перейры является одновременно и обрамляющей новеллой.
Другая линия – это непосредственно само путешествие Леонардо и Альцесты и происшествия, случающиеся с ними по дороге: встреча с перевозчиком Черепахой, который везет их из Змиева до Бахтина (откуда они должны плыть на лодке), история «доброго древонасадца», его бабы и их бездомного сына, а также пролетарского студента Перебийноса, который страстно влюбляется в Альцесту и т. д. При этом путешествие является безотказным приемом нанизывания новых ситуаций и мотивировки появления действующих лиц. Сюжетные линии Хосе Перейры и Леонардо с Альцестой сходятся только в начале третьей части романа: оказывается, Хосе не был убит, а Леонардо, который ненадолго был ошибочно принят за Хосе Перейру и на некоторое время расставался с Альцестой, снова с ней воссоединяется.
Важным материалом развертывания сюжета является эротическое остранение, данное через постоянное авторское заигрывание с читателем и оттягивание момента соития Леонардо и Альцесты, которая в конце романа из его «будущей» возлюбленной превращается в его настоящую. Сам по себе этот мотив является предметом постоянного пародирования. Наиболее частый прием пародии у Йогансена – совмещение двух планов – «низкого» и «высокого». Так, например, доктор Леонардо оказывается врачом-венерологом; пафос первой любовной ночи Леонардо и Альцесты (чего, по мнению автора, так долго ждет читатель) снижается их сражением с комарами.
Путешествие героев – Хосе Перейры, Леонардо и Альцесты – заканчивается неожиданно: они внезапно проваливаются в «тартарары»[560]. Из такого финала можно сделать интересный вывод: исчезают только те герои, которые не являются местными жителями, другими словами, не являются частью местного ландшафта, а воспринимаются как нечто привнесенное извне, несвойственное местной жизни.
Подытоживая, приведу несколько примеров авторского художественного метода, основанного на постоянном обнажении приема и остранении. Так, необходимость ехать Леонардо и Альцесте на извозчике Черепахе до Бахтина объясняется так: «Следовательно, я должен просить вас, мой друг Черепаха, подчиняясь фабульным законам (здесь и дальше курсив наш. – Г. Б., А. Д.), везти нас на Бахтин»[561]. В другом месте читаем: «Дорогая Альцеста, – сказал доктор. – Я предложил бы снова сесть в лодку. Правда, нам придется возвращаться назад, но у нас много времени, а фабульные законы неумолимы[562]». Или приведем речь Дона Хосе Перейры, который появляется внезапно под конец романа, когда герои собираются ехать на станцию и таким образом завершить свое путешествие: «Вам нельзя ехать на станцию. Тот самый всемогущий вершитель моей и вашей судеб, который заставил меня, тираноборца, убегать в херсонской степи от куркулей на смех всей читательской аудитории, тот самый, который так долго не давал возможности соединиться доктору Леонардо с прекрасной Альцестой, что у некоторых читателей аж слюнки текли, тот самый творец не может пустить вас на станцию. Редакторы и критики съели бы его живьем, если бы он заставил пролетарского студента Перебийноса платить Черепахе аж три рубля за повозку»[563].
Здесь мы видим, что сами персонажи романа знают о своей «вымышленности» и вступают в постоянные диалоги то с автором, то с читателем. И наконец, в послесловии читаем: «Нигде не написано, что автор в литературном произведении обязан водить живых людей по декоративным пейзажам. Он может попробовать наоборот – водить декоративных людей по живым и сочным живописным видам»[564]. Таким образом, роман представляется гимном «литературности», где условность литературного произведения доведена до абсурда.
Как уже отмечалось выше, «Путешествие ученого доктора Леонардо…» – одна из тех прозаических книг, которые завершают период поисков советской литературы 1920‐х годов в областях пародии и стилизации. Эта книга замыкает ряд, который еще до революции начинается с «Подвигов Великого Александра» Кузмина (1909)[565]. В условиях становления сталинского режима и нового типа советской культуры, ориентированной на «большой имперский канон» и «большие жанры», стилизация и пародия становятся нежелательными, если не опасными.
Кажется, финальную точку в этом процессе поставили Ильф и Петров в романе «Золотой теленок», где Остап Бендер, путешествующий в «пресс-вагоне» на открытие Турксиба, пытается заработать, продавая советским журналистам своего рода писательский лексический «конструктор», из которого можно соорудить и передовицу, и очерк, и репортаж в любом стиле 1920‐х годов. В «наборе» Бендера можно встретить слова из обихода конструктивистов, рапповцев и других литературных объединений. Как и в случае «Парнаса дыбом» и «Путешествия ученого доктора Леонардо…» перед нами двойная пародия – на тех, кто механически воспроизводил свой стиль, и на тех, кто строил свою литературную теорию на идее набора приемов. Шкловский «покаялся» в 1930 году[566], год спустя Ильф и Петров пародируют уже «мертвый» формализм и культ литтехники.
В завершение этой главы напомним еще одно, уже теоретическое обстоятельство. Как мы уже не раз говорили в этой книге, русский формализм и развитие этого метода в Украине – вещи не одинаковые. Русский формализм как литературная теория, как мировоззрение находится в ряду универсалистских концепций, характерных для эпохи модерности (вместе с марксизмом, фрейдизмом и проч.). Иными словами, основной идеей формализма было то, что существует «универсальный ключ» ко всей мировой литературе и этим ключом является сам формальный метод. В Украине эта сторона формализма была сильно ослаблена, наоборот, здесь «рецепты» формализма использовались для формирования новой национальной советской украинской литературы, национального литературного канона и в итоге для конструирования украинской национальной идентичности. Украинский формализм был универсальным по форме и национальным по содержанию, если точнее – национальным по интенции. Так в эту эпоху и в этих обстоятельствах происходил культурный трансфер.
Творчество Йогансена, как теоретическое, так и литературное, является важным подтверждением этого тезиса. Набор формалистских подходов и практик в его книгах превращается в инструмент формирования нового типа украинской литературы, по мнению Йогансена, единственно возможной в советскую современную эпоху. Это литература авантюрная, фабульная, антипсихологическая, развернутая в сторону массового читателя[567]. Уже несколько лет спустя для культурной политики эпохи складывания сталинского ампира этот подход оказался чуждым и, по сути, враждебным.
553
Тынянов Ю. Достоевский и Гоголь (K теории пародии). Пг.; Л.: ОПОЯЗ, 1921. С. 9.
554
Для попытки реконструкции истории и поэтики жанра см. напечатанную на исходе советского века книгу: Вулис А. З. Литературные зеркала. М.: Советский писатель, 1991 (ташкентский литературовед, историк сатирической прозы межвоенных десятилетий и автор приключенческих повестей Абрам Зиновьевич Вулис (1928–1993) еще в середине 1960‐х был одним из главных поборников печатания «Мастера и Маргариты» М. Булгакова).
555
См., в частности: Баран Х. Фрагментарная проза // Поэтика русской литературы конца XIX – начала XX века. Динамика жанра. Общие проблемы. Проза. М.: ИМЛИ РАН. 2009. С. 463–520.
556
См. важные работы о специфике прозаического искусства Кузмина: Эйхенбаум Б. М. О прозе М. Кузмина // Эйхенбаум Б. М. Сквозь литературу. Л.: Academia, 1924. С. 196–200; Марков В. Ф. Беседа о прозе Кузмина [1984] // Марков В. Ф. О свободе в поэзии: Статьи, эссе, разное. СПб.: Изд-во Чернышева, 1994. С. 163–169; Панова Л. Г. Сюжет как металитературный ребус: Михаил Кузмин – забытый провозвестник модернистской прозы // Сюжетология и сюжетография. 2017. № 1. С. 79–149.
557
Можно, к примеру, провести параллель между эссе Кржижановского «Московские вывески» (впервые напечатано в 1925 году в журнале «Тридцать дней») и очерком Йогансена «Nomina-omina. Латинська рима» (1929), в котором автор высмеивает стиль харьковских вывесок. Конечно, Сигизмунд Кржижановский не принадлежал ни к «кругу Кузмина», ни к его ленинградским последователям 1920–1930‐х. Он развивал свою творческую линию интеллектуальной прозы, отчасти схожую с «кузминской» и «посткузминской». О связи творчества Кржижановского, выпускника университета Святого Владимира, с украинским контекстом (киевским или, позднее, одесским): Воробьева Е. Неизвестный Кржижановский (Заметки о киевском периоде творчества писателя) // Вопросы литературы. 2002. Т. 6. С. 274–318; Ромащенко Л. І. Україна в життєтворчості Сигізмунда Кржижановського // Філологічні науки. 2018. № 29. С. 44–50.
Хотя между «Путешествием ученого доктора Леонардо…» и романами Вагинова «Козлиная песнь» и «Труды и дни Свистонова» можно наметить любопытные параллели.
558
Оба последних соавтора были специалистами по всеобщей литературе, а также по творчеству Потебни. Паперная Э., Финкель А. Как создавался «Парнас дыбом» // Вопросы литературы. 1966. № 7. С. 234–241.
559
Dwyer A. Revivifying Russia: Literature, Theory, and Empire in Shklovsky’s Civil War Writings // Slavonica. 2009. Vol. 15. № 1. P. 11–34; Dwyer A. Standstill as Extinction: Viktor Shklovsky’s Poetics and Politics of Movement in the 1920s and 1930s // PMLA/Publications of the Modern Language Association of America. 2016. Vol. 131 (2). P. 269–288.
560
Здесь мы видим отсылку к древнегреческому мифу, героиня которого Альцеста (древнегреческое имя Илкестида) согласилась сойти вместо мужа в Аид. Ее спас Геракл, который отбил ее у Танатоса и возвратил супругу. Введение в повествование о современности героев и образов, явно близких античной мифологии характерно для творчества Константина Вагинова, вероятно, повлиявшего на Йогансена. См., к примеру, его роман «Козлиная песнь» и некоторые стихи.
561
Йогансен М. Вибрані твори. С. 422.
562
Там же. С. 428.
563
Йогансен М. Вибрані твори. С. 475.
564
Там же. С. 508.
565
От этой вещи Кузмина начинается сразу несколько линий модернистской прозы, включая самые неожиданные. В дневниковой записи от 21 декабря 1910 года Франц Кафка пишет о чтении «Подвигов Великого Александра», которые произвели на него сильное впечатление (Кафка Ф. Дневники. М.: Аграф, 1998. С. 24).
566
В 1930 году Шкловский напечатал покаянную статью «Памятник научной ошибке», см.: Литературная газета. 1930. 27 января. № 4 (41). С. 1. Александр Галушкин считал, что признанием главенства марксистского метода Шкловский лишь хотел оградить себя и своих коллег от нападок в печати, см. подробнее: Галушкин А. «И так, ставши на костях, будем трубить сбор…»: К истории несостоявшегося возрождения ОПОЯЗа в 1928–1930 гг. // Новое литературное обозрение. 2000. № 44. С. 136–158.
567
В середине 1920‐х в советской литературе происходит оживление жанра авантюрного романа, что было связано с программой «создания революционной романтики» и «коммунистического Пинкертона», выдвинутой Н. Бухариным на V съезде РКСМ 13 октября 1922 года (См.: Правда. 1922. 14 октября (№ 232)). Шкловский В. Б. Собр. соч. М.: Новое литературное обозрение, 2018. Т. 1: Революция / Сост., вступ. статья И. Калинина. С. 986.