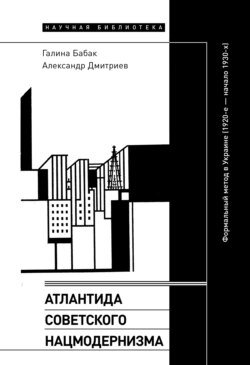Читать книгу Атлантида советского нацмодернизма. Формальный метод в Украине (1920-е – начало 1930-х) - Галина Бабак - Страница 7
Часть вторая
Русский формализм и становление литературной теории в советской Украине в 1920‐е годы
Глава 1. Многонациональная культура революционной Украины
Альманахи «Музагет» (1919) и «Гермес» (1919)
ОглавлениеПервая мировая война и падение царского режима в феврале 1917 года создали принципиально новую политическую ситуацию как для реализации планов независимости Украины, так и для становления украинской науки на новом институциональном уровне. Еще в 1915–1916 годах украинская культурная и общественно-политическая жизнь с учетом новых ограничений военного времени (с запретом местных «Просвит»[248] и выпуска ряда украинских газет) оказалась почти «выдавлена» в имперские столицы[249]. В Москве выходили русскоязычный журнал «Украинская жизнь», новооткрытый литературный «Проминь» а также общефедералистский орган «Национальные проблемы» (под редакцией оппонента Струве Богдана Кистяковского); изданием двух первых ведали соответственно Симон Петлюра и Владимир Винниченко[250], политическим биографиям которых вскоре суждено круто изменится. Издательство «Парус», одним из инициаторов которого был Горький, в годы Первой мировой войны и революции готовило антологии поэтических переводов с национальных языков; отдавший много усилий переводам с армянского Валерий Брюсов участвовал и в проектах, связанных с Украиной[251].
Уже с весны – лета 1917 года сразу вслед за национально-политическим подъемом в южных губерниях набирает силу и организация украинской научной общественности, включая создание народных университетов и открытие кафедр по украиноведению в университетах Харькова и Киева, расширению сети новых библиотек, музеев, сферы художественного образования[252]. Осенью 1918 года правительством гетмана Павла Скоропадского была основана Украинская академия наук, которая первоначально состояла из трех научных отделений – историко-филологического, физико-математического и социальных наук. С 1919 года УАН начала издавать журнал «Записки историко-филологического отдела» под общей редакцией известного харьковского историка Дмитрия Багалея[253]. С окончательным установлением советской власти Академия была переименована во Всеукраинскую академию наук (ВУАН) и стала подчиняться Народному комиссариату просвещения (Наркомпрос); в ее состав также вошли основанное при ближайшем участии Михаила Грушевского Украинское научное общество[254] и Киевская археографическая комиссия[255]. Украинизация бывших императорских университетов (порой с элементами раскола в 1918–1919 годах) обернулась сразу после 1920 года их специализацией и понижением статуса: превращением в Институты народного образования с целью ускоренной подготовки педагогических кадров – вместо прежнего ориентира на фундаментальную науку[256]. Кроме этого, в конце 1921 года было принято решение о создании на территории Советской Украины региональных научно-исследовательских кафедр при Наркомпросе (в Харькове и Одессе в первую очередь)[257].
Резкое расширение сферы использования украинского языка меняет ситуацию и для украинской литературы. Появляются новые органы печати, стремительно растут тиражи украиноязычной книги при самых разных перипетиях политической жизни и столкновений[258]. Несмотря на трагическое время войн и потерь, в период 1917–1920 годов происходит оживление литературной и культурной жизни, важнейшим центром которой был именно Киев[259]. При этом волна стихийной «украинизации снизу» захватывала самые разные регионы по обе стороны Днепра, доходя до Причерноморья и Донбасса, и не ограничивалась территориями под контролем правительств Центральной Рады или Украинской народной республики[260]. И дело не только в массе вчерашних крестьян (часто в солдатских шинелях), но и в «низовой», разночинной интеллигенции – из этих рядов будут мобилизовываться и выдвигаться главные кадры и культурные силы будущих перемен 1920‐х и даже 1930‐х годов[261].
Киев конца 1910‐х годов – место пересечения русской, украинской, еврейской и польской культур и сосуществования разных (нередко конфликтующих друг с другом) художественных объединений и течений, которые часто были вынуждены быстро мимикрировать в ситуации постоянного изменения политических режимов (с марта 1917‐го по июнь 1920‐го власть в городе менялась более десяти раз)[262]. Одним из мест встречи творческой интеллигенции была художественная студия Александры Экстер[263], где, в частности, учились еврейские художники (Борис Аронсон, Исаак Рабинович, Нисон Шифрин)[264]; в студии также бывали Илья Эренбург, Бенедикт Лившиц, Давид Бурлюк, Виктор Шкловский[265]. Ученицей Экстер была и Надежда Хазина, будущая жена Осипа Мандельштама. Мандельштам познакомился с Хазиной в 1919 году в Киеве, куда его командировали из Москвы, из Наркомпроса, для работы в театральном отделе Киевского губнаробраза[266]. В 1918 году из Владивостока в Киев возвращается Михайль Семенко, который в 1919–1920 годах в сотрудничестве с художником Георгием Нарбутом издает журнал «Мистецтво»[267]. В 1918 году импульсы символистской поэтики времен «Украинской хаты» пытается продолжать группа «Белая студия», участники которой выпустили единственный номер «Литературно-критичного альманаха» (с важнейшими стихами молодого Тычины). Наконец, в 1917–1920 годах фактически под редакцией Миколы Зерова издается очень важный для консолидации культурной украинской жизни критическо-библиографический журнал «Книгар»[268]. Этот список можно продолжать еще долго; главное, что все это демонстрирует присутствие и работу бок о бок деятелей разных национальных культур, представителей самого широкого художественного, идейного и политического спектра, что и сформировало неповторимую культурную идентичность Киева в годы революции и Гражданской войны.
В своих воспоминаниях о литературном Киеве 1919 года писатель Клим Полищук[269] описывает поэтический вечер только что организованного Профессионального союза художников слова[270]:
От россиян выступали Натан Венгров, Геннадий Коренев, Маккавейский, Зозуля, Лившиц, Эренбург и многие другие, из произведений которых на две трети состояла программа всего «вечера». Одна треть принадлежала украинцам и евреям. Украинцы выступали скромно, но успех имели полный. Произведения П. Тычины произвели просто колоссальное впечатление[271].
Будущий видный марксистский критик 1920‐х Владимир Коряк задним числом ехидно описывал пересечение литературных и общественно-политических кругов тогдашней киевской жизни:
Киев становится столицей нового «европейского государства», и тут просыпается европейская культура «кафе». Молодые украинские поэты и литераторы завтракают и обедают в одном кафе с министрами и членами правительства Центральной Рады. Одни формируют государственность, другие – общественное мнение и националистическую идеологию[272].
Очерчивая культурную и политическую жизнь послереволюционного Киева с куда большей дистанции, Мирослав Шкандрий отмечал основания для такого смешения культуры и политики:
В первые три года символисты и футуристы, националисты и социалисты сосуществовали без трений. Их объединяла вера в то, что долгожданный крах царизма освободил украинский народ, тем самым открыв возможность для развития своего политического и культурного аппарата. Интеллигенция стремилась посвятить этой задаче все свои усилия и ожидала имманентного культурного возрождения, которое выявило бы давно подавленные национальные творческие силы[273].
Последнему тезису можно найти множество подтверждений; одним из наиболее интересных среди них является статья библиографа и литературоведа Юрия Меженко[274] «Творчество индивидуума и коллектив», а также сам альманах «Музагет», в котором она напечатана. Альманах издали в Киеве в 1919 году бывшие участники символистской «Белой студии», содержал он две критические статьи Меженко, причем вторая была посвящена анализу «Солнечных кларнетов» П. Тычины[275]. Критический раздел был представлен статьями Дмитра Загула (под псевдонимом И. Майдан) «Поэзия как искусство», Миколы Бурачека «Искусство в Киеве», Леся Курбаса «Новая немецкая драма». Сборник, объединивший авторов разных направлений (П. Тычину, О. Слисаренко, К. Полищука, Д. Загула, М. Терещенко, П. Филиповича, театрального режиссера Л. Курбаса, М. Жука и др.), оппоненты слева назвали потом «знаменитым документом неудачной попытки европеизации украинской культуры, последним… словом людей с хутора, которые хотели одеться во фрак и лаковые туфли»[276].
Материалы «Музагета» отображают формальные поиски 1910‐х годов, о чем сами авторы сообщают в предисловии: «Наконец, после нескольких месяцев, на протяжении которых мы эволюционировали в чисто формальном направлении, выступаем перед светлым лицом Украинской культуры»[277]. Обратим также внимание на национально ориентированную позицию сборника: «…мы, молодые писатели, обращаемся к украинскому обществу как к определенному творческому фактору с глубоким убеждением, что в нем и только в нем мы сможем найти главные моральные опоры для нашего духовного существования»[278]. Поэтому неслучайно, что и опубликованная там статья Меженко «Творчество индивидуума и коллектив» отображает те же поиски украинской культуры, которая после 1917‐го оказалась в ситуации, где «национальное» должно было сочетаться с интернациональными принципами побеждающей социалистической идеи.
Меженко поднимает вопрос взаимоотношения индивидуального и коллективного в творчестве и отмечает, что защитники «нового» в искусстве, которые постоянно нападают на традицию и «лепят на нее этикетки „неугодно народу“»[279], на самом деле не могут предложить «новых» приемов, что «указывает на незрелость идеи коллективного творчества»[280]. Меженко пишет, что индивидуум может творить только в случае, когда ставит себя выше общественности, но в то же время чувствует некоторое родство с ней. Таким образом, критик подходит к вопросу «национального», который он «ставит во главе не только коллективного, но и личного, индивидуального творчества»[281]. Далее Меженко отмечает, что психология народа, нации является некоторой константой, которая диктует свои требования к индивиду; поэтому, по его мнению, «мы не знаем вненациональных культурных творцов или же межнациональных»[282]. Но в то же время критик пишет, что человек не привязан к своему народу только своим происхождением. Например, выходца из Африки, выросшего в Европе и сформировавшегося под влиянием европейской философии, нельзя причислять к африканцам только исходя из его происхождения. Отсюда Меженко делает вывод, что «только чувство общей психологической почвы может отнести не только человека, но и его творчество к определенной национальной группе»[283].
Меженко отмечает, что в последнее время все чаще говорят о классовых интересах, но никто не говорит о национальных интересах в творчестве. В этом критик усматривает победу «материальной культуры» (имеется в виду машинизация) над духовной, однако тут же замечает, что материальная культура не в силах уничтожить национального образа народа: «Исходя из этого принципа, мы не можем ничего другого найти в искусстве, как оправдание его творчества национальностью»[284]. Меженко заключает, что те взгляды, на которых основаны принципы так называемой пролетарской культуры, настолько незрелы, что с ними даже невозможно полемизировать. В этом контексте Меженко делает резкий исторический выпад против русской культуры, но одновременно указывает на сходство задач, стоявших в тот момент перед нею и перед украинской культурой:
Перед нами сейчас большая по размерам нация, которая имеет претензии сказать новое слово в культуре, еще не образовав своей собственной, а вместе с тем уже успевшая отречься от всех предыдущих своих культурных достижений. Мы говорим о Московии и в этом случае всецело присоединяемся к московскому народу, который до сих пор не имел своей культуры, а до революции ее заменяли ему объедки с западного стола и псевдоиндивидуалистические безделушки, начиная от псевдоклассицизма и заканчивая футуризмом[285].
Меженко, используя слово «Московия» вместо «Россия», в каком-то смысле продолжает линию русских славянофилов и будущих евразийцев, которые, следуя философской концепции органического развития народов и их культур, видели подлинное русское начало лишь в московском периоде русской истории. Согласно классикам славянофильства (А. Хомяков, Ю. Самарин и др.), реформы Петра Великого нанесли сильнейший удар по «естественному течению» русской жизни. Вместо органического развития народа, его языка, его институций России был навязан западноевропейский пример; внедрение чужих обычаев и систем привело к отчуждению русского народа от самого себя. Иными словами, имперский (или петербургский) период русской истории ряд славянофилов воспринимал как своего рода ошибку, заблуждение на пути национального самоосуществления; они надеялись на восстановление утраченной связи с культурой, обычаями и установлениями допетровской Руси, собственно «московского периода».
В этом пункте Юрий Меженко, сражающийся за украинскую национальную культуру, сходится – как и соратник Шевченко Пантелеймон Кулиш после 1850‐х годов – с предтечами русского национализма. Интересно, что в этом рассуждении антиимперский пафос делает великорусских («московских» в его словоупотреблении) граждан такими же жертвами имперской нивелировки, как и украинцев. Залогом прекрасного будущего обоих народов он считает восстановление (отчасти реконструкцию) того, что сегодня называют «национальной идентичностью». Здесь следует отметить два интересных момента. Первое – это то, что автор модернистского сборника, пишущий в Киеве времен острейших социальных и культурных столкновений нового столетия, пользуется довольно архаичным на тот момент языком, отвечающим настроениям второй половины XIX века. Его рассуждения о «неиспорченной» национальной традиции суть повторение органицистской метафоры, характерной для немецкого философского романтизма конца XVIII – начала XIX века[286]. Второе обстоятельство отсылает уже к современным на тот момент событиям: рассуждая о «московском народе», Меженко апеллирует не только к концепции русских славянофилов, но и к событию, произошедшему в 1918 году, – переносу советской столицы из Петрограда в Москву. Таким образом, под «московским народом» имеется в виду население Советской России того времени. Говорить более открыто, судя по всему, автор не мог, ибо нестабильность политической ситуации в Киеве угрожала прямым сторонникам большевиков, по крайней мере, любое прямое упоминание в положительном контексте Советской России могло оказаться роковым.
В статье, написанной в разгар Гражданской войны, когда вопрос о независимости Украины стоял остро и защитниками идеи независимости с разных сторон выступали разные политические силы, Меженко фокусирует свое внимание на соотношении индивидуального / коллективного в творчестве, используя в основном подходы, характерные для эпохи романтизма, что может объясняться и дальними истоками национализма как порождения романтизма. Важно отметить, что память о статье Меженко как этапной осталась в сознании младших современников, даже весьма далеких от него идеологически: перепечатка этой работы будет в 1928 году открывать раздел манифестов в итоговом двухтомнике Лейтеса и Яшека к десятилетию новой украинской литературы.
В 1919 году в Киеве был организован литературно-художественный клуб «Льох мистецтва» (рус. «Подвал искусства»), который на короткое время (с мая по июль) стал «центром киевской украинской литературной жизни»[287]. К. Полищук отмечал, что идея клуба состояла в объединении «собственных художественных сил разных политических лагерей»[288]. Участниками клуба были актеры «Молодого театра» во главе с Лесем Курбасом, символисты-музагетовцы Яков Савченко, Дмитро Загул, Василь Чумак, футурист Михайль Семенко, художник Анатоль Петрицкий, будущий «неоклассик» Микола Зеров.
Идея организации подобного места встреч была позаимствована, в свою очередь, у литературно-артистического клуба «Х. Л. А. М.» (аббревиатура от «Художники, литераторы, артисты, музыканты»), которое объединяло представителей русской (русскоязычной) культуры в Киеве. В своих воспоминаниях писатель и поэт Юрий Терапиано писал:
После падения гетмана и Петлюры, в начале 1919 г., в Киев вошли большевики. Кому-то из бывших деятелей Киевского Литературно-Артистического Общества пришла в голову мысль устроить в зале бывшей гостиницы «Континенталь» эстраду со столиками, для выступлений. ‹…› В это время в Киев съехалось много поэтов и писателей из Петербурга и Москвы, в надежде подкормиться в продовольственно более благополучном Киеве. Помещение «Хлама» стало своего рода штаб-квартирой киевских литераторов[289].
«Арт-кафе» посещали Илья Эренбург, Константин Паустовский, Григорий Петников[290], Осип Мандельштам[291], Владимир Маккавейский и другие авторы.
Многонациональный контекст художественной атмосферы послереволюционного Киева объясняет и появление литературно-критического альманаха «Гермес». Сборник был издан в 1919 году под редакцией В. Маккавейского – киевского поэта-символиста, выпускника историко-филологического факультета университета Святого Владимира[292]. Альманах состоял из двух частей, художественной и критической, и объединял самых разных авторов: авангардистов Николая Асеева, Григория Петникова, Бенедикта Лившица[293], Александру Экстер (она создала обложку), символистов Александра Блока, Вячеслава Иванова, акмеиста Осипа Мандельштама, только недавно вступивших в литературу Юрия Терапиано, Николая Бернера[294] и других.
Совершенно закономерно, что в издании, которое объединило модернистов и авангардистов двух поколений, впервые в Украине был опубликован текст одного из основоположников «русского формализма» – и отклик на него. Модернизм и особенно авангард с его повышенным интересом к форме, с его новым отношением к тому, что у формалистов получило название «материал», обосновавшись в новых исторических условиях в многонациональном и мультикультурном Киеве, сразу позволил включить новую литературную теорию в местную культурную повестку. Именно в «Гермесе» была напечатана статья Виктора Шкловского «Из филологических очевидностей современной науки о стихе», датированная декабрем 1918 года.
Публикация текста Шкловского была призвана манифестировать новаторство формального метода в вопросе изучения поэтического языка: «…и со стороны словаря речь стихотворная – речь затрудненная и тем самым выведенная из автоматизма»[295]. Автор начинает статью с критики Потебни и символистов: «Потебня, понявший искусство прежде всего как басню, как ряд аллегорических формул к арифметике жизни, завел символистов в тупик „что? и как?“ в понимании искусства как формы мышления»[296].
В развернутых полемических комментариях Маккавейского находим уточнение: «Ввиду особой сложности и деликатности вопроса должно предположить ‹…›, что тупиком является не проблема в себе, но ее, по мнению автора, неправомерная у Потебни постановка»[297]. Сам Маккавейский (сын профессора-богослова, как и другой киевлянин, Михаил Булгаков) в специальной предваряющей статье «Искусство как предмет знания (Точка зрения формальной интуиции в ее критико-методологических возможностях)» представил свою нарочито усложненную, балансирующую на грани самопародии версию «восстановления прав чистого умения»:
В искусстве же, обратно, при очевидном множестве и несходстве эмпирических целей, то есть при множественности цели-ценности (обтесанный камень, замазанный холст, отбивающие такт ряды слов) замечается объединяющий все факты искусствования в одно искусство, искусность, некий формальный элемент умения, функция духа, занятая чистым актом целесообразования, пригонки, сцепки, Kunstgriff’a. За пределами этой функции в искусстве, безусловно, может быть еще сколько угодно типических отличий, но без нее, без технэ, оно – не искусство, его не признал бы искусством понимающий в этих делах эллин. ‹…›
Значит все равно «что», важно «как»; не потому что безразлична сущность, а важна внешность, а потому что сущность искусства, его феноменологическое «что» – актуально, заключено в бытии его «как».
Как видим, уже в связи с комментариями Маккавейского к тексту Шкловского снова – и в духе лекций Перетца – оказалось позитивно переосмыслено «что» в пользу «как», формальной техники, но не «идеологической формалистики». Редактор «Гермеса» прямо поддержал крамольное и для большевиков, и для старой интеллигенции, включая украинскую, положение опоязовского лидера о независимости художественных перемен от общественных. Шкловский в харьковских статьях конца 1918 года (включая первую в его творчестве работу о кинематографе) резко выступал против превращения футуризма в своего рода «придворное искусство» при власти большевиков[298].
Ехидно-косноязычно, языком футуристического манифеста «киевский Малларме» Маккавейский подхватывает идею Шкловского о несвязанности форм искусства с формами жизни из гермесовской статьи. Иначе «два года революции успели бы что-нибудь дать, превзойти нашего единственного, барочного, вчерашнего Маяковского, одноголосого как припев старообрядцев, всемирного в размере булочной Филиппова, но как она в себе совершенного, несмотря на то, что один из восьми академических бликов половинного цилиндра от porte cochere (Paris) отражает коллектив, как отражал городового на перекрестке»[299].
Готовность Маккавейского, утонченного знатока новейшей и античной философии, поддержать и при этом одновременно словно бы передразнить пролетарскую идеологию очевидна и в его выступлении наряду с Бенедиктом Лившицем на публичном диспуте о пролетарском искусстве в 1919 году, в момент занятия Киева «красными».
Мы левее передовых большевиков, ибо мы достигли уже самоутверждения, сути, серьезности, дела, ядра, слития понятий вдохновения и ремесла, Бога и молота, не сделав ни Бога Гефестом, ни молота – орудием Перуна. Понятие сноровки мастерового (техника) и пафоса жреца (технэ) для нас диалектически примирены. ‹…› Нужно же лишь описание искусства, то бескорыстное приглашение учесть его в его сути, как особый вид бытия, какое означает диалектическую формулу спайки формы с материалом, многообразную в своей диалектике в соответствии с многообразием опытных возможностей (курсив автора. – Г. Б., А. Д.). И все эти возможности – победа молотка над металлом, веса над массой, песни над усталостью, ритма над шестнадцатичасовой поденщиной, как известно, искони близки, органически внятны в их принципе духу ремесленника, чуткого к индивидуальности материала, к вещности вещества, к той идее, какая совпадает с формой и не совпадает с подлинно-буржуазной, мещански-городской идеологистикой[300].
Сам Маккавейский, по одним данным, уже в начале 1920 года примкнул к белым и погиб, но для нашей книги очень важно и показательно представленное даже в таком пафосно-ироническом виде пересечение идей социальной и научно-художественной: высокого союза «актера» и «рабочего» (вторя стихотворению Осипа Мандельштама) и принципа опоры теории искусства, пусть и с аллюзиями к первоначальному христианству и Средневековью, на опыт умелого мастера-творца, а не только на методологизм философа-систематизатора[301].
Судя по всему, разговор, начатый в альманахе «Гермес» Маккавейским, является отправной точкой для сюжета о рецепции формализма в Украине. И хотя это издание было русскоязычным, сам факт публикации в нем статьи Шкловского и – пусть зачаточной – рефлексии в связи с формализмом исключительно важен. Круг литераторов, филологов и философов, связанных с «Гермесом», был весьма близок к тем молодым киевским университетским интеллектуалам, в том числе близких к В. Н. Перетцу, кто сознательно и последовательно выбрал после 1917–1918 годов именно украинскую культуру как главное русло своей деятельности и призвания, но в первой половине 1910‐х годов (как будущий неоклассик Павло Филипович, например) еще увлекался и изучением пушкинской эпохи, символизмом, акмеизмом, творчеством Блока, Сологуба и Брюсова[302]. Маккавейский читал параллельно со Шкловским, Эренбургом и Евреиновым, а также художником Чекрыгиным и коллегой Жирмунского по Петрограду (из романо-германского семинария) Стефаном Мокульским доклады в студии Александры Экстер[303].
Украинские литераторы, критики, литературоведы в годы революции и Гражданской войны оказались на пересечении не только разных политических и идеологических силовых полей, но и культурных влияний, традиций и, что важно для нас здесь, новаторских начинаний[304]. Неудивительно, что именно в те годы в уже прекративших к началу 1920‐х издаваться журналах «Шлях» (который начал выходить еще в Москве), «Мистецтво», «Книгар» дебютировали многие из ведущих участников будущих украинских литературных дискуссий, где отношение к формальному методу станет одной из главных тем.
Революция 1917 года открыла новые перспективы развития украинской науки и литературы и актуализировала многие культурно-идеологические процессы, которые долгое время находились в «замороженной» форме[305]. Сама попытка создания независимого украинского государства послужила сильнейшим импульсом к формированию проекта национальной культуры и науки на новых основаниях, почву для чего подготовили предшествующие поколения деятелей украинской и русской культуры. В то же время, и это принципиально важно, украинская культура развивалась в тесной близости и переплетении с русской и еврейской, что можно увидеть на примере культурной жизни послереволюционного Киева[306].
В этом смысле следует отметить две важные функции, которые выполняла русская культура в украинском национальном контексте конца 1910‐х годов. С одной стороны, здесь можно говорить о ее доминирующем и подавляющем характере по отношению к украинской, что обусловлено самими историческими обстоятельствами их развития[307]. С другой стороны, сама по себе ситуация «конкуренции» стимулировала процесс поиска и «модернизации» украинской культуры, которая в перспективе рассматривала себя как интеллектуально и эстетически самодостаточный проект. Именно из этой перспективы следует рассматривать следующий этап истории украинской литературы и литературной теории – в той ее части, что развивалась в советской Украине в 1920‐е годы.
Сосуществование разных национальных миров в одном городе в эпоху войн не было бесконфликтным. Взрыв украинского самосознания воспринимался приверженцами прежних культурных иерархий, даже не из стана консерваторов, скорее враждебно. Характерен спор издателя «Киевской старины» Владимира Науменко с учеником Перетца Иваном Огиенко весной 1918 года или реплика Г. Зильберга на страницах представительного киевского журнала «Куранты искусства, литературы, театра и общественной жизни», где, в частности, сотрудничали переводчик, друг футуристов Александр Дейч, будущий создатель «Огонька» Михаил Кольцов и его брат Борис Ефимов[308]. Характерными были как весьма негативная реакция части российских деятелей искусств (особенно приехавших с севера или бывших имперских столиц) на политику украинизации, так и критическая оценка подобной позиции у представителей становящейся культуры украинской. И потому газетный очерк Илья Эренбурга конца 1919 года об украинском искусстве[309] встретил отпор у молодого и еще мало кому известного тогда Миколы Зерова на страницах журнала «Друкар»:
Против выводов Эренбурга говорить не будем – охотно допускаем, что на многие из своих обвинений он имеет полное право – для нас важно не «что», а «как» он говорит. Яркая типичность этих обвинений и выводов – в их тоне. К украинскому искусству г. Эренбург обращается свысока, как полноправный представитель русской музы, которая старше и богаче своей южной сестры, как высокоразвитый «литературных дел мастер». Как человек высокой культуры, как вельможный, но ласковый чужеземец, которого даже «встающий образ Бальмонта не лишает возможности наслаждаться многими строфами Олеся». Разумеется, при таких условиях установить связь нового украинского искусства с украинскими его истоками, понять его в органическом процессе роста г. Эренбург возможности не имеет. Как каждый представитель общерусской культуры из местных обывателей, он считает себя компетентным выносить авторитетные приговоры украинской культуре – без глубокого с ней знакомства. Хотя малороссийского анекдота про «самоперы» он – за что ему спасибо – не произносит, но слишком далеко от него не отходит[310].
Интересно, что уже не раз помянутый принцип «не что, а как» оказывается задействован в данном случае в плоскости национально-культурных взаимоотношений. Хотя среди последователей Ленина и Троцкого было немало украинцев, но в рядах украинских большевиков противопоставление своего пролетарского/фабричного города чужим и враждебным соседним мирам – крестьянскому (а то и «куркульскому») украиноязычному селу и «низовой» национальной интеллигенции – явно было распространено[311]. Эта неприязнь к «украинскому шовинизму» (что иногда оказывалось сродни еврейской «самоненависти») захватывала порой и культурные круги, именно под красным знаменем лозунгового интернационализма[312].
Так, уже цитированный нами украинский писатель Клим Полищук писал в своих воспоминаниях о Киеве 1919 года:
«Левой! Левой! Кто там кричит – Правой?!» – звучало отовсюду после московского футуриста Маяковского, что многим «молодчикам» казалось голосом трубы революционного архангела. Поэтому шли «налево», чтобы не быть среди «отстающих», при этом безрассудно «брали пример» со своих московских «коллег», даже тех, которые родились и выросли на Украине, но писали и говорили по-московски[313].
Важно отметить, что речь не идет о слепом копировании или неосознанном заимствовании элементов или даже целых художественных систем (как футуризм) другой культуры. Здесь имеет смысл говорить о взаимном «культурном трансфере», который предполагает как наличие некоего общего фундамента, так и появление ряда интерпретаций и последующего «перекодирования» присвоенного чужого объекта, в результате чего происходит реактуализация его смысла: «Культурный трансфер не определяется исключительно экспортом. Напротив, скорее именно конъюнктура (потребности) пространства, в котором происходит усвоение чужого, определяет то, что вообще может быть заимствовано, или же то, что, латентно уже присутствуя в национальной памяти, может быть реактивировано, дабы послужить в дальнейшем злобе дня»[314].
Наше дальнейшее рассмотрение процессов в украинской литературе и литературной теории, прежде всего анализ новых национальных поэтик 1920‐х годов, находится в пределах изучения способов культурного обмена и влияния.
248
Всеукраинское общество «Просвещение» имени Тараса Шевченко (укр. Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка) – общественная культурно-просветительская организация. Возникла во Львове в 1868 году, до Первой мировой войны ее филиалы работали во многих украинских городах Австро-Венгерской и Российской империй (уже после 1906 года). «Просвиты» занимались в первую очередь низовым образованием крестьянства в национальном духе и уже в 1920‐е годы в УССР стали синонимом узко-народнического горизонта культурного развития. См.: Дорошенко В. «Просвіта», її заснування й праця: короткий історичний нарис. Філадельфія, 1959.
249
Политика властей была не только сугубо репрессивной (как представлялось украинским активистам), но порой манёвренной и в ряде случаев отличалась от радикальных украинофобских настроений местной «истинно русской» общественности Киева, Харькова или Одессы; тем более что ряд низовых правых организаций в 1910‐е тоже стал больше ориентироваться на «местный народный колорит»: Kotenko A. An Inconsistently Nationalizing State: The Romanov Empire and the Ukrainian National Movement, 1906–1917 // The Tsar, the Empire, and the Nation. Dilemmas of Nationalization in Russia’s Western Borderlands, 1905–1917. Budapest: CEU Press, 2021. P. 17–31; Федевич К. К., Федевич К. І. За Віру, Царя і Кобзаря. Малоросійські монархісти і український національний рух (1905–1917 роки). К.: Критика, 2017 (ср. возражения: Чемакин А. А. Украинская «Чёрная сотня»? Концепция К. К. Федевича как попытка «украинизации» Союза русского народа // Русин. 2021. № 63. С. 205–222).
250
Кистяковский Б. Что такое национализм? // Национальные проблемы [двухнедельный журнал]. 1915. № 1. С. 1–5; Кузьменко Т. А. Из эпистолярного наследия редакторов журнала «Украинская жизнь» (1912–1917) // Славянский альманах. 2020. № 1–2. С. 154–164.
251
Сивоволов Б. М. В. Я. Брюсов – співредактор Антології української літератури // Радянське літературознавство. 1965. № 8. С. 71–73; Сивоволов Б. М. Редактор, перекладач, популяризатор (Брюсов і українська поезія) // Радянське літературознавство. 1973. № 12. С. 47–51.
252
Ефремов С. Мартиролог украинского слова // Украинская жизнь. 1917. № 3/6. С. 32–49; Буравченко Д. Громадська ініціатива в культурно-мистецькому житті України доби Центральної Ради (образотворче мистецтво, музейна справа, охорона історичних пам’яток) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. 2010. № 5. С. 315–337; Завальнюк О. Українські університети: лекційно-пропагандиський, літературно-публіцистичний і редакційно-видавничий аспекти (1917–1920 роки) // Студії з історії Української революції 1917–1921 років: на пошану Руслана Яковича Пирога. К.: Інститут історії України НАН України, 2011. С. 253–270 (подробней о новых и старых университетах см. масштабную монографию: Завальнюк О. М. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917–1921 рр.). Кам’янець-Подільський, 2011).
253
Дмитрий Багалей (1857–1932) – историк, общественный и политический деятель, организатор науки, профессор. Ректор Императорского Харьковского университета (1906–1910). С 1918 года – академик Украинской академии наук, с 1919 года возглавлял ее историко-филологический отдел. До революции 1917 года входил в партию кадетов. В 1920‐е годы принимал активное участие в осуществлении политики «украинизации». Директор научно-исследовательского Института Тараса Шевченко (1926–1930).
254
Украинское научное общество (Українське наукове товариство) было основано в 1907 году в Киеве по инициативе М. С. Грушевского с целью организации научной работы и популяризации науки на украинском языке. В 1908–1918 годы УНТ издавало журнал «Записки Українського наукового товариства» под редакцией М. С. Грушевского, В. Н. Перетца, М. П. Василенко. См.: Завальнюк О. Українське наукове товариство і творення національної університетської освіти (1917–1920 рр.) // Український історичний журнал. 2008. № 5. С. 112–121.
255
Киевская археографическая комиссия была основана в 1843 году и стала первой специализированной институцией по изучению и публикации источников по истории Украины (в первую очередь Малороссии).
256
Дмитриев А. Н. Владимир Вернадский, «Академическая революция» 1917–1918 гг. и украинская эмиграция // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 2013. № 4. С. 142–156; Завальнюк А. М. Российские университеты в контексте движения за украинизацию высшей школы на Украине (март 1917 – апрель 1918 гг.) // Гуманитарный вектор. 2010. № 4. С. 14–21; Наумов С. О. На шляху до українізації: Харківський університет у 1917 – першій половині 1918 рр. // Вісник ХНУ університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Історія. 2019. № 55. С. 48–58.
257
Юркова О. Ю. Діячі науки в полі зору диктатури // Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921–1928): Колективна монографія: У 2 т. К.: Інститут історії України НАН України, 2015. Т. 2 / Ред. С. В. Кульчицький. С. 5–56.
258
Низовий М. А. Тематично-цільові аспекти українського дореволюційного книговидання (1901–1917 рр.) // Вісн. Харків. держ. академії культури: зб. наук. праць, 2012. Вип. 37. С. 160–171; Кароєва Т. Підприємці в забезпеченні україномовного читання в Російській імперії 1881–1916 рр. // Україна модерна. 2016. Вип. 22. С. 93–115; Кiвшар Т. А. Український книжковий рух як історичне явище (1917–1923 рр.). К.: Логос, 1996.
259
Об исходной ситуации с книгоизданием в Киеве до революционных сдвигов см.: Петров С. С. Книжкова справа в Києві, 1861–1917. К., 2002. Подробнее черты истории литературного Киева в ХХ столетии представлены в книге Мариэтты Чудаковой о Булгакове (Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. М.: Книга, 1988), а также в очерках Мирона Петровского (Петровский М. С. Городу и миру. К.: Дух і Літера, 2008).
260
Чорноморська хвиля Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917–1920 рр. / В. Хмарський (ред.). Одеса: ТЕС, 2011; Музичко О. Є. Південна вісь Соборності: націєтворчі процеси в Українському Причорномор’ї (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.). Одеса, 2015; Розовик Д. Культурне будівництво в Україні у 1917–1920 рр. К., 2011.
261
Касьянов Г. В. Українська інтелігенція 1920‐х – 30‐х років: соціальний портрет та історична доля. К.: Globus, 1992; Телячий Ю. Українська літературно-мистецька інтелігенція в національному відродженні (1917–1921 рр.). Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014.
262
В плане современной социальной истории см.: Бетлій О. Чи можливий «міський поворот» в українській історіографії? Або, Чого нас може навчити західна історіографія Першої світової війни та місто Київ // Історія, пам’ять, політика: Збірник наукових праць / Упоряд. Г. Касьянов, О. Гайдай. К., 2016. С. 53–72. В фундаментальной работе А. В. Крусанова о русском авангарде применительно к Украине речь идет либо о «гибридно»-русскоязычных феноменах (включая театральные), либо, собственно, о развитии русской литературы на юге бывшей империи; и наибольшее внимание уделяется, соответственно, Харькову: Крусанов А. В. Русский авангард: 1907–1932 (Исторический обзор): В 3 т. М.: Новое литературное обозрение, 2003. Т. 2: Футуристическая революция. 1917–1921. Кн. 2. С. 224–280.
263
О киевских главах долгой и переменчивой жизни Экстер см. в ее фундаментальной биографии: Коваленко Г. Ф. Александра Экстер. Т. 1–2. М.: Музей современного искусства, 2010.
264
О трансформации и развитии еврейской культуры в Украине в тот период см., в частности: Shkandrij M. Avant-Garde Art in Ukraine 1910–1930: Contested Memory. Boston: Academic Studies Press, 2019.
265
Известно, что Шкловский был в Киеве с октября по ноябрь 1918 года. А. Ю. Галушкин отмечает: «В октябре вынужден покинуть Россию; перейдя границу с гетманской Украиной, приезжает в Киев, где поступает на службу в броневой дивизион гетмана Скоропадского. После неудавшегося переворота, устроенного эсерами и „Союзом Возрождения России“ с целью свержения Скоропадского, ареста Колчаком Уфимского совещания и, очевидно, не без связи с некоторым „левением“ эсеровской партии, в конце 1918 г. Шкловский принимает решение отказаться от политической борьбы». См.: Шкловский В. Б. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). М.: Сов. писатель, 1990. С. 507–508.
266
О связях Мандельштама с Киевом уже существует обширная литература; укажем только две работы: Булкина И. С. «Пахнут смертью господские Липки…»: о контекстах «киевского» стихотворения Мандельштама // Литературный факт. 2017. Т. 4. С. 1–9; Кацис Л. Русский еврей Осип Мандельштам и еврейский Киев: взгляд Н. Я. Мандельштам // Материалы Пятнадцатой ежегодной международной междисциплинарной конференции по иудаике. 2008. С. 403–421; и обстоятельно откомментированные П. Поберезкиной воспоминания поэта Григория Петникова (1894–1971), в тот период видного сподвижника культурной политики большевиков в Харькове: Петников Г. Страничка воспоминаний (Осип Мандельштам) // Toronto Slavic Quarterly. 2012. № 40. С. 312–325.
267
Шерстинюк Л. Л. Журнал «Мистецтво» (1919–1920 рр.) як джерело вивчення культуротворчого процесу революційної доби //Актуальні питання мистецької педагогіки. 2015. № 4. С. 106–112.
268
«Книгарь» был ежемесячным журналом, который выходил в издательстве «Час». В журнале печатались критические рецензии, материалы по истории украинского книгоиздания. «Книгар» сыграл важную роль в становлении украинской литературной критики и библиографии. С журналом сотрудничали С. А. Ефремов, Ю. А. Меженко, М. М. Могилянский, И. Я. Айзеншток, П. П. Филипович, А. В. Никовский и другие активные участники литературного процесса 1920‐х. Ільницька Л. Журнал «Книгарь»: літопис українського письменства (1917–1920): Систематичний покажчик змісту. Львів, 2016 (с важной статьей известного украинского историка книги Ярослава Исаевича, впервые напечатанной в переломном 1991 году); Телячий Ю. В. Журнал «Книгар» як джерело дослідження книговидавничої діяльності інтелігенції в роки української революції (1917–1920 рр.) // Формування та діяльність українських національних урядів періоду української революції 1917–1921 рр. Кам’янець-Подільський, 2008. С. 269–275. См. републикации: Єфремов С. Публіцистика в «Книгарі» доби війни та революції (1917–1920) / Упоряд., вступ. ст., авт. прим. С. Г. Іваницька, Т. П. Демченко. Херсон: Гельветика, 2018.
269
Клим Полищук (1891–1937) – украинский писатель, публицист, автор исторических романов. В 1920 году вместе с армией УНР ушел в Галичину (которая находилась тогда в составе Польши). Осенью 1925 года вернулся в Украину, жил в Харькове, работал в Государственном издательстве Украины. В 1929 году был арестован, осужден на 10 лет заключения в лагерях. Расстрелян 3 ноября 1937 года в урочище Сандармох.
270
Инициатором Профессионального союза художников слова был Михайль Семенко. Союз делился на три секции – украинскую, русскую, еврейскую. Идея его заключалась в объединении представителей разных национальных литератур. См. подробнее: Поліщук К. Л. Вибрані твори / Перед., упоряд. С. Яковенко. К.: Смолоскип, 2008. С. 610–611.
271
Там же. С. 612.
272
Коряк В. Д. Етапи // Коряк В. Д. Організація жовтневої літератури. Газетні та журнальні статті 1919–1924. Харків: ДВУ, 1925. С. 26.
273
Shkandrij M. Modernists, Marxists and the Nation. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1992. P. 20.
274
Юрий Меженко (настоящая фамилия Иванов; 1892–1969) – библиограф, библиотекарь, литературовед. Родился в Харькове. Выпускник историко-филологического факультета Московского университета (1917). Во время революции спасал усадебные библиотеки; их фонды легли в основу Всенародной библиотеки, которую Меженко и возглавил. Директор Главной книжной палаты в Киеве, председатель Совета всенародной библиотеки Украины при Украинской Академии наук (1919–1922), директор Украинского научно-исследовательского института книговедения (1922–1931). После ликвидации Института книговедения был обвинен в национализме. В 1934–1945 годах работал в Ленинграде в библиографическом отделе Публичной библиотеки; после 1945-го – в Киеве. Собрал коллекцию шевченкианы, насчитывающую более 15 тысяч единиц хранения. Автор многих трудов по книговедению, библиографии, литературно-театральной критике и истории украинского театра. См.: Соколинский Е. Ю. А. Меженко. Библиограф на ветрах истории. СПб., 1998. Творчеству Меженко посвящены диссертация 2000 года и ряд трудов львовской исследовательницы Олены Галеты, в том числе: Галета О. Старші й молодші чи старі і нові: поколіннєвий поділ літератури у працях Юрія Меженка // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2018. № 67 (2). С. 56–67.
275
На страницах «Книгаря» об этом сборнике писал выпускник Коллегии Галагана и ученик Перетца Борис Ларин: «Про соняшнi кларнети П. Тичини» (Книгарь. Лiтопис українського письменства. 1919. Ч. 25–26).
276
Соколинский Е. Указ. соч. С. 25 (группа «СiМ»). См. воспоминания Галины Журбы (Домбровской) (1889–1979): Журба Г. Від «Української Хати» до «Музагету» // Слово: Збірник 1. Нью-Йорк, 1962. С. 434–473.
277
Музагет: Місячник літератури та мистецтва. Київ. 1919. № 1/3. С. 4.
278
Там же. С. 3.
279
Меженко Ю. Творчість індивідума і колектив // Музагет: Місячник літератури та мистецтва. К., 1919. № 1/3. С. 65.
280
Там же. С. 71.
281
Там же. С. 72.
282
Там же. С. 76.
283
Меженко Ю. Творчість індивідума і колектив. С. 77.
284
Там же. С. 78.
285
Там же. С. 77.
286
Применительно к евразийцам 1920–1930‐х годов, не исключая и Романа Якобсона, эту апелляцию к наследию немецких романтиков особенно настойчиво указывал Патрик Серио в своей масштабной книге: Серио П. Структура и целостность: Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе. 1920–30‐е гг. М.: Языки славянской культуры, 2001.
287
Поліщук К. Вибрані твори. С. 615.
288
Там же.
289
Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953. С. 13.
290
О Петникове см. подробнее главу «Майк Йогансен. „Как строится рассказ. Анализ прозаических примеров“…».
291
Мандельштам познакомился с Надеждой Хазиной именно в этом заведении на вечеринке по поводу дня рождения киевского переводчика и театрального критика Александра Дейча в самом начале мая 1919 года.
292
Кравец В. «Воспоминанье не балуй» (Об одном стихотворении В. Маккавейского) // Вестник Литературного института имени А. М. Горького. 2015. № 3. С. 33–41.
293
В довоенный период именно с Киевом была связана биография Лившица: Успенский П. Киевский круг Бенедикта Лившица // Егупец: Альманах. 2012. № 21. С. 220–260.
294
Устинов А. Две жизни Николая Бернера // Лица: Биографический альманах. 2002. Вып. 9. С. 5–67.
295
Шкловский В. Из филологических очевидностей современной науки о стихе // Гермес. Киев, 1919. С. 70. (Статья перепечатана в недавнем Собрании сочинений Шкловского, выпускаемом издательством «Новое литературное обозрение».)
296
Там же. С. 67.
297
Там же.
298
На эти публикации вслед за А. Крусановым и Р. Янгировым указывают авторы детальной статьи о нем: Пильщиков И., Устинов А. Виктор Шкловский в ОПОЯЗе и Московском лингвистическом кружке (1919–1921 гг.) // Wiener Slavistisches Jahrbuch. 2018. Т. 6. С. 176–206 (С. 178, 183).
299
Шкловский В. Из филологических очевидностей современной науки о стихе // Гермес. К., 1919. С. 67–71.
300
Выступление Маккавейского (из сборника «Классовое творчество и диктатура пролетариата» К., 1919) перепечатано в книге: Молодяков В. Э. Тринадцать поэтов: Портреты и публикации. М.: Водолей, 2018. С. 187. В терминологии Маккавейского нетрудно увидеть прообраз – совершенно независимого и куда более саркастичного – описания пролетарской мифологии у А. Ф. Лосева в пассажах его «Очерков античного символизма и мифологии» про «скуловоротов в рясах»; при общей и для киевского эстета, и для московского имяславца неприязни в духе Константина Леонтьева к буржуазной или обывательской «серединке».
301
См. схожие глубокие соображения о выборе Мандельштама в пользу революции, а не ее противников: Тоддес Е. А. Поэтическая идеология // Тоддес Е. А. Избр. труды по русской литературе и филологии. М.: Новое литературное обозрение, 2019, особенно с. 353–370.
302
См. важный материал о молодом Павле Филиповиче и В. Отроковском: [Соболев А. Л.] Стихи филологов 3. Павел Филипович // LiveJournal. 30.05.2012: http://lucas-v-leyden.livejournal.com/162174.html; Булкина И. «Смутной жизни тень…» Забытый поэт: между филологией и поэзией // Гефтер. 20.03.2017: http://gefter.ru/archive/21582.
303
Темой Маккавейского была китайская графика. См.: Коваленко Г. Ф. Павел Челищев. М.: Искусство – XXI век, 2021. С. 29.
304
Помимо футуризма, в число «новых течений», так или иначе поощряемых большевиками Украины (в опасном для них 1919 году), явно входила и постсимволистская поэтика Ахматовой: Поберезкина П. Литературные рекомендации Бюро украинской печати (1919 г.) // Поберезкина П. Вокруг Ахматовой. М.: Азбуковник, 2015. С. 215–234.
305
Королев Г. Украинская революция 1917–1921 гг.: мифы современников, образы и представления историографии // Ab Imperio. 2011. № 4. С. 357–375.
306
Важным моментом деятельности еврейской умственной и художественной жизни в Киеве со времен гетманата Скоропадского была созданная «федеративная» организация «Культур-лига». См.: Правда iсторiї. Дiяльнiсть єврейської культурно-просвiтницької организацiї «Культурна лiга» у Києвi (1918–1925): 3б. документiв i матерiалiв / Укл. М. О. Рибаков. Вид. 2-ге, випр. та доп. К., 2001. Важное сопоставление со сходными организациями в Белоруссии: Ле Фолль К. Киевская Культур-лига и Витебская художественная школа: два подхода к проблеме еврейского искусства и национального самосознания // Бюллетень Музея Марка Шагала. Витебск, 2006. Вып. 14. С. 79–86: http://chagal-vitebsk.com/node/36
307
Из выходивших в 1917–1920 годах газет на русском печаталось 438, на украинском – 286, 27 помещали материалы на двух языках (Рудий Г. Я. Періодика України 1917–1920 рр.: історіографія та джерельний потенціал // Рукописна та книжкова спадщина України. 2018. Вип. 22. С. 319). См. продробнее: Рудий Г. Я. Преса України 1917–1920 рр. як об’єкт дослідження української культури: джерелознавчий і методологічний аспекти. К.: Ін-т історії України НАНУ, 2005; Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського: каталог / Авт. – уклад.: О. А. Вакульчук (кер.). К.: НБУВ, 2014.
308
Науменко В. Як не треба викладать історію української культури // Нова рада. К., 1918. 23 березня; Шилов К. Между сердцем и временем // Шилов К. Восстановление родства: очерки, портреты, воспоминания. М.: Прогресс-Плеяда, 2007. С. 331 и след. (в связи с биографией А. И. Дейча).
309
Фрезинский Б. Илья Эренбург в Киеве (1918–1919) // Минувшее. СПб., 1997. Вып. 22. С. 248–335; Попов В., Фрезинский Б. Илья Эренбург: хроника жизни и творчества (в документах, письмах, высказываниях и сообщениях прессы, свидетельствах современников). СПб.: Лина, 1993. Т. 1: 1891–1923. С. 175; Эренбург И. Украинское искусство // Эренбург И. На тонущем корабле. Статьи и фельетоны 1917–1919 гг. / Сост. А. И. Рубашкин. СПб: Петербургский писатель, 2000.
310
Зеров М. «Об украинском искусстве» // Зеров М. Українське письменство. К.: Основи, 2003. С. 305–306 (анекдоты про самопер / автомобиль на «мове» были еще в ходу и в 1920‐е годы).
311
Ср.: Бондарчук П. М. Національно-культурна політика більшовиків в Україні на початку 1920‐х років. К.: [б. в.], 1998; Єфіменко Г. Г. Комунізм vs. українське націєтворення в радянській Україні (1917–1938 рр.): сприяння, поборювання чи вимушене замирення? // Український історичний журнал. 2012. № 2. С. 120–126 (особенно это касалось позиции Христиана Раковского времен Гражданской войны).
312
К примеру, К. Полищук об одном из сподвижников Гастева по украинскому Наркомпросу также писал: «…поэт Натан Венгров по поводу шевченковских праздников высказался, что „самое лучшее, как можно почтить память этого шовиниста, так это выстроить около его могилы ряд виселиц“» (Поліщук К. Вибрані твори. С. 610). В эпоху «национальной революции» и Гражданской войны память Шевченко стала одним из инструментов борьбы разных сил и важным средством легитимации именно для Украинской Центральной Рады или Директории Украинской народной республики. См. более подробный обзор: Лозовий В. С., Машталір А. І. Політична інструменталізація постаті та творчості Тараса Шевченка як чинник національного відродження у Наддніпрянській Україні (1917–1920 рр.). Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016.
313
Поліщук К. Вибрані твори. С. 611.
314
Эспань М. История цивилизаций как культурный трансфер / Пер. с франц. Е. Дмитриева. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 64.