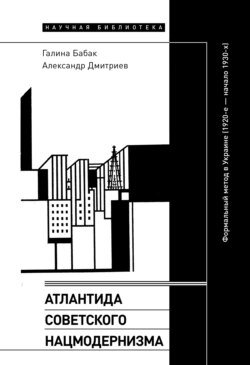Читать книгу Атлантида советского нацмодернизма. Формальный метод в Украине (1920-е – начало 1930-х) - Галина Бабак - Страница 15
Часть третья
Полемика о формальном методе в советской Украине 1920‐х годов
Глава 3. Борис Эйхенбаум в Украине
Дискуссия вокруг статьи «Теория „Формального метода“» в журналах «Червоный шлях» и «Красное слово»[680]
ОглавлениеВ августовском номере журнала «Червоный шлях»[681] за 1926 год была впервые опубликована статья Бориса Эйхенбаума «Теория „формального метода“» в переводе на украинский язык[682]. Публикация была сделана с пометкой: «Учитывая многочисленные просьбы читателей ответить на страницах нашего журнала на вопрос о „формальном методе“, редакция дает в этом номере как статью Б. Эйхенбаума, так и ее критику…»[683]. Вместе со статьей Эйхенбаума были напечатаны полемические статьи двух украинских авторов – Захария Чучмарева «Социологический метод в истории и теории литературы» и Агапия Шамрая «„Формальный“ метод в литературе». Статья следующего участника дискуссии, Василя Бойко, «Формализм и марксизм» вышла в декабрьском номере. И наконец, в мартовском номере журнала «Красное слово» за 1927 год была помещена статья литературоведа и деятеля культуры Анатолия Машкина «Формализм и его пути», которая завершала полемику.
Известно также, что за несколько месяцев до публикации, 18–19 апреля, в харьковском Доме ученых[684] Эйхенбаум прочел три лекции, посвященные разным аспектам формальной теории: «Что такое формальный метод», «В борьбе за литературу» и лекцию о концепции «литературного быта»[685]. О содержании лекций можно узнать из статей В. Бойко и А. Машкина, которые пересказывают и обильно цитируют их[686].
Можно предположить, что Эйхенбаума пригласил в Харьков Александр Белецкий, который, напомним, с 1926 года возглавлял секцию теории и методологии литературы при кафедре литературоведения Харьковского института народного образования. Как уже говорилось выше, тематика работы литературоведческого семинара Белецкого свидетельствует о большом интересе харьковских литературоведов к формальной теории. О том, что Белецкий мог выступить инициатором организации публичных лекций Эйхенбаума, есть косвенное свидетельство в его письме к М. Зерову от 1 января 1929 года: «Дом Ученых по предложению моему и М. П. Самарина предполагает просить Вас и П. Филиповича приехать в Харьков для прочтения в ДУ какого-либо доклада-лекции во второй половине января – в первой половине февраля. Мне поручили узнать на этот счет Ваше мнение»[687].
В то же время пригласить Эйхенбаума в Харьков мог Борис Лезин, редактор харьковских сборников «Вопросы теории и психологии творчества» (1907–1923). Известно, что 25 апреля 1925 года Эйхенбаум выступил в ГИИИ с докладом и текст его через два дня отправил Лезину, который планировал возобновить издание сборников[688]. Однако этого не произошло, и статья была передана в редакцию журнала «Червоный шлях».
Благодаря несостоявшейся попытке Лезина возобновить издание «Вопросов теории…» в журнале «Жизнь и революция» («Життя й революція») в начале 1927 года была опубликована статья Виктора Виноградова «О теории литературных стилей». Статья Виноградова, как и статья Эйхенбаума, была написана специально для планируемого сборника, и впоследствии Лезин передал ее в редакцию журнала[689]. Из сохранившегося плана переиздания сборника можно узнать, что он должен был называться «Введение в изучение поэтического творчества» и состоять из пяти частей – «Слово», «Словесные произведения», «Процесс поэтического творчества», «Литература и критика», «Наука о литературе». Помимо самих Лезина, Эйхенбаума и Виноградова, к участию в сборнике были приглашены А. Белецкий, Е. Кагаров, А. Машкин, Л. Булаховский, В. Харциев, Т. Райнов, Б. Томашевский, В. Жирмунский, П. Сакулин, А. Горнфельд, Б. Энгельгардт и др.[690]
После визита в Харьков Эйхенбаум должен был отправиться читать лекцию в Киев, однако из письма Бориса Якубского Эйхенбауму от 4 августа 1926 года явствует, что лекция не состоялась (см. Приложение). Отметим также, что в июле 1926‐го в Харькове побывали Виктор Жирмунский[691] и Виктор Шкловский. В заметке, помещенной в газете «Вечернее радио» от 20 июля, сообщалось, что в Харьков прибыл «известный писатель и теоретик литературы Виктор Шкловский», приезд которого связан с переговорами с ВУФКУ[692] о постановке фильма по его сценарию[693]. Предположительно, именно в эти дни – 20–22 июля Шкловский выступил с открытой лекцией[694] во Всеукраинском коммунистическом институте журналистики[695].
Сама же статья Эйхенбаума возникла на волне полемики вокруг теории «формального метода» в русской периодике в 1923–1925 годов, которая в исторической перспективе стала переломным моментом в развитии формализма[696]. Как отмечает В. Эрлих, если в начале 1920‐х критики-марксисты предпочитали «игнорировать» резкие заявления формалистов, то с растущей популярностью ОПОЯЗа в кругах литературоведов и писателей эта ситуация меняется – формализм начинает восприниматься как серьезный конкурент «исторического материализма»[697]. С критикой формализма выступил сам Лев Троцкий[698]. Его определение формализма как «реакционного мировоззрения» сориентировало последующее рассмотрение формальной теории сквозь призму идеологии и выработало отношение к формализму как к «буржуазной науке», хотя уже через пару лет начались официальные советские гонения, включая идеологические, на самого Троцкого, которые закончились его высылкой. Тем не менее именно Троцкий во многом сформировал официозный советский идеологический контекст, в котором появилась и в котором следует рассматривать авторефлексивную статью Б. Эйхенбаума[699].
Ретроспективная цепочка, которую выстраивает Эйхенбаум, тянется от вопроса о звуках стиха и противопоставления поэтического языка практическому к вопросу институционального функционирования литературы – литературному быту. Эйхенбаум достаточно подробно излагает как общий контекст возникновения ОПОЯЗа, так и сам формальный подход к анализу литературного материала[700].
Здесь хотелось бы обратить внимание на несколько важных моментов для понимания авторских интенций. Первый вывод будет связан с прагматическим аспектом текста. Если принять во внимание толкование процесса «понимания» Гадамером, то за любым речевым высказыванием стоит предвосхищающий его вопрос, т. е. оно мотивированно («Стоящий за высказыванием вопрос – вот то единственное, что придает ему смысл»[701]). Имплицитно в тексте этот вопрос обозначен самим же автором статьи: «Мы окружены эклектиками и эпигонами, превращающими формальный метод в некую неподвижную систему „формализма“, которая служит для выработки терминов, схем и классификаций. ‹…› Никакой такой системы или доктрины у нас не было и нет»[702].
Таким образом, всю статью следует рассматривать не только как один из многих формалистских автометатекстов[703], а как попытку объяснить и даже в какой-то степени исторически «оправдать» свою позицию: «Первоначальный период научной борьбы закончен ‹…›. История требовала от нас настоящего революционного пафоса – категорических тезисов, беспощадной иронии, дерзкого отказа от каких бы то ни было соглашательств»[704].
В этом смысле очевидной становиться авторская интенция подчеркнуть (в первую очередь) «эволюционность» метода в ответ на обвинения оппонентов. Поэтому не случайно Эйхенбаум занимает достаточно тенденциозную позицию, с самого начала стремясь обозначить, что формальный метод образовался «не в результате создания особой „методологической“ системы, а в процессе борьбы (курсив наш. – Г. Б., А. Д.) за самостоятельность и конкретность литературной науки»[705].
Здесь мы подходим к другому, не менее важному аспекту, а именно к вопросу «научности» формального метода. Своим вводным пассажем Эйхенбаум стремится определить готовность к дальнейшим дискуссиям. На такую особенность «научности» формалистов (т. е. того, как «делалась наука», самой сути процесса) обращает внимание Оге Ханзен-Лёве, в частности, он указывает на «свободную, игровую атмосферу формалистских кружков, где царил интимный, личный, персональный настрой семинарских занятий»[706]. Это, естественно, шло вразрез с монологичной позицией и академизмом предшествующей науки, существовавшей в строго обозначенных рамках научного жанра. Такая атмосфера, по мнению Ханзена-Лёве, подчеркивает настроенность на диалогичность и коммуникативный характер научного поля, в котором обитал формализм, где «всякое понятие определялось не номинативно, оно сопровождалось многообразными полемическими коннотациями»[707]. Несомненно, что эту стратегию Эйхенбаум переносит и в свой текст[708].
Тем не менее здесь возникает вопрос: почему при всем своем желании «обновить» науку о литературе формалисты занимают «остраненную» позицию по отношению к фигуре ученого, как бы вынося себя за скобки научного мира? Подобная позиция связана с пониманием того, что сам объект изучения – литературный материал – не статичен: «Литературный факт – разносоставен, и в этом смысле литература есть [не]прерывно эволюционирующий ряд»[709]. Именно на эту нерелевантность объекта изучения и метода позже указывает Гадамер, намеренно отказываясь от разработки метода с целью «более истинной интерпретации»: «Сущность научной методологии в том и состоит, что научные высказывания – как бы копилка бесспорных истин»[710]. В таком ракурсе «свободная» позиция формалистов по отношению к собственному методу и предмету изучения становится более понятной: «Мы достаточно свободны от собственных теорий, как и должна быть свободна наука, поскольку есть разница между теорией и убеждением»[711].
Такая заложенная методологическая открытость (в смысле конвертируемости системы) формалистов вызвала бурю негодования среди украинских критиков из марксистского лагеря. К примеру, Чучмарев обвинял формалистов в отсутствии «готовой системы и доктрины», называл такую позицию «домашней халатной философией»: «Что же это за наука, если нет системы? Если наука формалистов свободна от теорий – а между теорией и убеждением по Эйхенбауму есть большая разница, – тогда наука формалистов подлежит только убеждению, которое не имеет ни теории, ни системы»[712]. Схожую начальную позицию находим и в статье Бойко: «…без научного метода не может быть и науки. А главным признаком научного метода должна быть объективность»[713].
Таким образом, обозначенная проблема главенства метода над материалом тянет за собой не менее сложный вопрос – изменчивости и эволюционности самого материала, понимание чего и отразилось в формалистской концепции «литературного быта», которая может быть истолкована как попытка выйти за границы самого метода. Практически все исследователи отмечают, что к 1923 году в кругу ОПОЯЗа наметился кризис методологии, что впоследствии привело к пересмотру, по мнению Эрлиха, позиции в отношении «связи литературы и истории»[714]. Также здесь следует сказать о другом, более прозаичном аспекте, с которым столкнулись формалисты в 1923 году. Это, безусловно, критика формального метода со стороны марксистского лагеря и, как следствие, понимание «формалистами» того, что без включения социального фактора в эволюционную концепцию литературы «гонка за первенство» будет проиграна[715].
В 1927 году в журнале «На литературном посту» (центральном органе РАПП) вышла статья Б. Эйхенбаума «Литературный быт». По мнению Я. Левченко, это было «продуманной вылазкой на „чужую“ территорию»: «Ведь именно пролетарская критика все активнее солидаризуется с „академической“ неприязнью к формалистам»[716]. Однако поворот к изучению внелитературных рядов происходит еще раньше: в 1924‐м была опубликована статья Тынянова «Литературный факт», которая засвидетельствовала новый виток в развитии формализма.
В своей статье «Теория „формального“ метода» Эйхенбаум лишь намечает этот вопрос («Теория сама требует выхода в историю»[717]), однако полемика, которая впоследствии разразилась вокруг статьи в украинской периодике, свидетельствует о том, что такой поворот вызвал большой интерес и бурное обсуждение на открытых лекциях в харьковском Доме ученых. Обращение теоретиков формализма к проблеме социального функционирования литературы во второй половине 1920‐х годах представляется для нас принципиально важным, поскольку вопрос «как быть писателем» не просто обострил полемику среди украинских критиков – представителей разных идеологических лагерей, но, в сущности, остался непонятым.
Здесь мы лишь тезисно отметим следующие принципиально важные аспекты для понимания эйхенбаумовской концепции «литературного быта». В первую очередь, следует сказать о полисемантических коннотациях, связанных с понятием «быта» в советском официальном дискурсе[718]: понимание «быта» как внеэстетического материала у формалистов (т. е. «быт» как институциональная форма литературы, поддающаяся структурированию) не тождественно официально-пропагандистскому толкованию «быта» как символа материального потребления, чего-то частного, интимного, личного, а значит, враждебного советской идеологии. Поэтому, «постулируя такое идеологически заряженное понятие как особый предмет изучения, теоретики формализма соотносили свою работу с проблематикой официальной идеологии»[719].
Обозначенная терминологическая омонимия отчасти объясняет сведение украинскими критиками вопроса «литературного быта» к биографизму и социальному детерминизму. В качестве примера приведем цитату из статьи В. Бойко «Формализм и марксизм»:
Формалисты уже начали изучать не только саму форму литературного произведения вне времени и пространства (здесь и дальше курсив автора – Г. Б., А. Д.), но начинают исследовать быт писателя, т. е. те жизненные влияния, которые ощутил писатель в период своего поэтического творчества. Объективно формалисты пришли к изучению общественной жизни, но принципиально они все же отрицают причинную связь литературы с этой общественной жизнью и хотят замазать эту связь туманной терминологией, как «соседство», обусловленность и другими словами[720].
Следующий важный аспект – «синхронный» характер интереса формалистов к этой проблеме, которая, по мнению Ханзена-Лёве, была продиктована самой эстетической и социокоммуникативной парадигмой современности (отношением писателя с читателями, редакторами, издателями, критиками, представителями власти и т. д.): «…они двигались не историческим интересом к объективной реконструкции фактической стороны, а актуальным, синхронным интересом, стремлением нового истолкования исторических фактов»[721]. Другими словами, здесь речь идет о коммуникативном устройстве литературы. Своей известной формулой «как быть писателем» Эйхенбаум не только обозначает вопрос, что предшествует появлению текста и что следует после, но, главное, обращает внимание на диалектическую по своей природе проблему корреляции литературного и «бытового» материала. Концепция «литературного быта» обращена, в первую очередь, к проблеме институционального функционирования литературы как профессиональной сферы деятельности, при этом в таком подходе «профессионализируется» не только сфера литературы, но и быта: «Профессиональный быт – это институциональный контекст литературного творчества, социальные рамки, в которых оно развивается»[722].
Позиция Эйхенбаума вызвала непонимание среди младоформалистов[723] и недоверие среди критиков-марксистов[724]. Однако, как отмечает Эйхенбаум в своей статье «Литературный быт», «обращение к литературно-бытовому материалу вовсе не означает отхода от ‹…› проблемы литературной эволюции. Это означает только включение в эволюционно-теоретическую систему ‹…› фактов генезиса – по крайней мере тех, которые могут и должны быть осмыслены как исторические, связанные с фактами эволюции и истории»[725].
Естественно, в этой системе меняется и позиция писателя, который из писателя превращается, по мнению Левченко, в «личность не реальную, а идеологически, социально и экономически обусловленный образ»[726]. Метафорично эту ситуацию Эйхенбаум обозначает как «писатель вышел на улицу»[727]. Продолжая эту логику, можно сказать, что и читатель «вышел на улицу», т. е. новая социокультурная ситуация породила такое явление, как «социальный заказ» или «общественный заказ», что впоследствии не могло не привести к появлению массовой литературы и снижению уровня литературной продукции, о чем, в частности, и говорит Эйхенбаум.
Из этого можно сделать вывод, что обращение формалистов к вопросу «литературного быта» было синхронным, контекстуальным явлением, спровоцированным, с одной стороны, идеологическим климатом, с другой – новой социокультурной парадигмой, в которой литература стала занимать место «идеологического рупора», основного инструмента влияния на общественные настроения.
Дальнейшая полемика, разразившаяся на страницах «Червоного шляха», интересна с точки зрения как высказанных участниками идейных позиций, так и рода их профессиональной деятельности; и, несмотря на то что все участники, кроме Шамрая, обороняли марксистскую идеологию от нападок формалистов, было бы неверным ввиду общей направленности их критики унифицировать представленную ими аргументацию[728]. Если привести общее раздражения, которое вызвала статья Б. Эйхенбаума у украинских критиков, к какому-то знаменателю, то можно прийти к следующим выводам.
Во-первых, следует разграничить позиции, с которых выступают Чучмарев, Бойко, Машкин и Шамрай. Первые рассматривают литературу с точки зрения либо социальной психологии (Чучмарев), либо исторического материализма (Бойко, Машкин), следовательно, под их «прицелом» оказывается как сам формальный метод, так и эстетическая позиция формалистов. Во-вторых, в их критике заметно поверхностное понимание самой сути формального подхода и связанное с этим беспочвенное оперирование фактами, вырванными из контекста. Наиболее глубокий интерес к природе формального анализа проявил Шамрай, чья статья представляется интересной и в контекстуальном аспекте (это развитие украинского и русского модернизмов), и в аспекте методологии (теория читателя, аппликация формального метода к анализу текста).
681
Редакционную коллегию журнала на тот момент представляли М. Хвылевой, С. Пилипенко, П. Тычина, М. Яловой и др.
682
К сожалению, в статье не указано имя переводчика.
683
Ейхенбаум Б. Теорія «формального методу» // Червоний шлях. 1926. № 7/8. С. 182.
684
Харьковский Дом ученых был создан по инициативе Всеукраинского комитета содействия ученым при Совнаркоме Украины и открыт осенью 1925 года. При Доме работали секции научных работников, проводившие Дни науки, студии художественного слова, вокала, изобразительного искусства, а также регулярно организовывались встречи с научными и культурными деятелями.
685
В. Бойко и А. Машкин в своих статьях говорят о трех лекциях Б. Эйхенбаума, при этом Бойко указывает даты 16–18 апреля. Однако в местных газетах «Вісті ВУЦВК» и «Коммунист» от 17 и 18 апреля дана заметка о двух лекциях, которые проходили 18 и 19 апреля в Доме ученых. В то же время в газете «Вечернее радио» от 16 апреля сообщалось о двух лекциях Эйхенбаума – 17 и 18 апреля. Подобную путаницу можно объяснить тем, что в последний момент произошли изменения в расписании лекций. См.: Лекції: [лекції проф. Б. Ейхенбаума в Будинку вчених] // Вісті ВУЦВК. 1926. 17 квітня; Лекции и диспуты: В Доме ученых: [лекции Б. Эйхенбаума] // Коммунист. 1926. 18 апреля; В Доме Ученых [Приезд Б. М. Эйхенбаума] // Вечернее радио. 1926. 16 апреля (№ 86). С. 3.
686
К этому можно добавить две рецензии на лекцию Эйхенбаума «В борьбе за литературу», опубликованные в газетах «Вечернее радио» и «Культура і побут»: П. Л. «В борьбе за литературу» (Лекция Б. Эйхенбаума в Доме ученых) // Вечернее радио. 1926. 20 апреля (№ 89). С. 3; Дніпровський І. Гендлярі славою, або Мобілізація мерців (з лекції проф. Ейхенбаума) // Культура і побут. 1926. 25 апреля (№ 17). С. 2–3. С содержанием рецензии А. П. можно ознакомиться в статье Оксаны Пашко. См.: Пашко О. «На шляхах до утворення науки про літературу»: нереалізований видавничий проект 1920‐х років // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. 2019. Т. 2. С. 72–91.
687
Белецкий А. И. Письмо М. К. Зерову от 1 января 1929 года // ІР НБУВ. Ф. 35. Ед. хр. 452. Л. 2.
688
Эйхенбаум Б. О литературе. Работы разных лет / Сост. О. Эйхенбаум, Е. Тоддес. М.: Сов. писатель, 1987. С. 510. См. также переписку Лезина с Эйхенбаумом по этому поводу в 1924–1926 гг.: РГАЛИ. Ф. 287. Оп. 1. Ед. хр. 30 (Письма Эйхенбаума Б. М. к Лезину Б. А.); РГАЛИ. Ф. 1527. Оп. 1. Ед. хр. 469 (Письма Лезина Б. А. к Эйхенбауму Б. М.).
689
Статья Виноградова была напечатана в переводе библиографа и критика Константина Довганя. См. подробнее: Виноградов В. О языке художественной прозы: Избранные труды / Послесл. А. П. Чудакова, коммент. Е. В. Душечкиной и др. М.: Наука, 1980. С. 351–352. Сама статья: Виноградов В. Про теорію літературних стилів // Життя й революція. 1927. № 1. С. 66–74.
690
РГАЛИ. Ф. 287. Оп. 1. Ед. хр. 2. 7 лл. (Планы переиздания сборника статей «Вопросы теории и психологии творчества» под редакцией Б. А. Лезина). См. также переписку Лезина с Горнфельдом, Томашевским, Виноградовым: РГАЛИ. Ф. 287. Оп. 1. Ед. хр. 11. 5 лл. (Письма Горнфельда А. Г. к Лезину Б. А., 24 сентября 1922 – 9 ноября 1924); РГАЛИ. Ф. 287. Оп. 1. Ед. хр. 27. 1 лл. (Письмо Томашевского Б. В. к Лезину Б. А., 29 октября 1925); РГАЛИ. Ф. 287. Оп. 1. Ед. хр. 8. 2 лл. (Письма Виноградова В. В. к Лезину Б. А. 12–29 октября 1929).
691
О приезде Жирмунского см.: Пашко О. «На шляхах до утворення науки про літературу»: нереалізований видавничий проект 1920‐х років // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. 2019. Т. 2. С. 72–91.
692
Всеукраинское фотокиноуправление (ВУФКУ) – государственная организация, которая объединяла всю отрасль, включая киностудии, кинопрокат, кинопромышленность, кинообразование и кинопрессу Украины в период с 1922 по 1930 год. Главное управление размещалось в Харькове. Украинское фильмопроизводство до 1926 года было сосредоточено на Одесской и Ялтинской студиях.
693
Виктор Шкловский в Харькове // Вечернее радио. 1926. 20 июля (№ 163). С. 3. См. подробнее о приезде Шкловского комментарий к приложению «Цемент и мандат» В. Шкловского в настоящей книге.
694
Об этом упоминается в монографии Александра Ушкалова, однако автор не указал источник. См.: Ушкалов О. «Золоті лисенята» повертаються. Юліан Шпол: життя і творчість. Харків: Майдан, 2012. С. 97.
695
Украинский коммунистический институт журналистики – высшее учебное заведение в Харькове, существовал в 1926–1941 годах. Основан на базе факультета журналистики Коммунистического университета имени Артема. В УКИЖи преподавались такие курсы, как теория и практика советской журналистики, основы полиграфии и издательского дела. См. об этом: Михайлин І. Основи журналiстики. К.: Центр учбової літератури, 2011.
696
Среди авторов, принявших участие в дальнейшей дискуссии, спровоцированной появлением статьи Троцкого, назовем Н. Бухарина, В. Полонского, П. Когана, А. Луначарского, А. Цейтлин и др.
697
Эрлих В. Русский формализм: История и теория / Пер. с англ. А. Глебовский. СПб.: Академический проект, 1996. С. 97
698
Троцкий Л. Литература и революция // Правда. 1923. 26 июля (№ 166).
699
После эмиграции Шкловского, а затем его возвращения и вынужденного переезда в Москву в 1923 году именно Эйхенбаум нес обязанность излагать взгляды опоязовцев в печатных и устных дискуссиях. См.: Эйхенбаум Б. О литературе: Работы разных лет. С. 509.
700
Детальнее и полнее об Эйхенбауме в переформулировке главных тезисов формализма писала еще в середине 1980‐х Мариэтта Чудакова: Чудакова М. О. Социальная практика, филологическая рефлексия и литература в научной биографии Эйхенбаума и Тынянова // Тыняновский сборник. Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986. С. 103–131; важным дополнением может быть четвертая глава «Формалист в кризисе» книги: Any C. J. Boris Eikhenbaum: Voices of a Russian Formalist. Stanford, 1994. P. 80–104.
701
Гадамер Г. Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 34.
702
Эйхенбаум Б. Теория «формального метода» // Формальный метод: антология русского модернизма: В 3 т. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. Т. 2: Материалы / Под ред. С. Ушакина. С. 645 (далее – Эйхенбаум Б.).
703
К этому типу текстов в первую очередь следует отнести манифест Осипа Брика «Т. н. „формальный метод“» (1923), статью Б. Эйхенбаума «Вокруг вопроса о формалистах» (1924), работу Б. Ярхо «Простейшие основания формального анализа» (1927); публикации «Формальный метод» (1925) и «Новейшая школа истории литературы в России» (1928) Б. Томашевского, цикл лекций Р. Якобсона 1935 года, изданных под названием «Формальная школа и современное русское литературоведение», и др.
704
Эйхенбаум Б. Указ. соч. С. 646.
705
Там же. С. 645.
706
Ханзен-Лёве О. Русский формализм: Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения / Пер. с нем. С. Ромашко. М.: Языки русской культуры, 2001. С. 549.
707
Ханзен-Лёве О. Русский формализм. С. 549.
708
Сергей Зенкин отмечает: «Русский „формальный метод“ отличался парадоксальной неформализованностью своего понятийного аппарата. Вводя в литературоведческую практику новаторские понятия и категории, ведущие теоретики ОПОЯЗа В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов зачастую не давали им определения». См.: Зенкин С. Работы о теории: Статьи. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 305.
709
Тынянов Ю. Литературный факт // Формальный метод: антология русского модернизма: В 3 т. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. Т. 1: Системы / Под ред. С. Ушакина. С. 680.
710
Гадамер Г. Указ. соч. С. 34.
711
Эйхенбаум Б. Указ. соч. С. 646.
712
Чучмарьов З. Соціологічний метод в історії та теорії літератури // Червоний шлях. 1926. № 7/8. С. 210–211 (далее – Чучмарьов З.).
713
Бойко В. Формалізм і марксизм (з приводу лекції проф. Ейхенбаума) // Червоний шлях. 1926. № 11/12. С. 141. (далее – Бойко В.).
714
В. Эрлих также утверждает, что полемика 1924–1925 годов имела плодотворное влияние на «формалистов». Так, Тынянов разработал теорию литературного ряда и изложил в работе «Литература факта» (1924), Эйхенбаум – теорию «литературного быта» и пр.
715
См. о дискуссии между формалистами и марксистами в русскоязычной периодике в 1924–1925 годах, а также: Eisen S. D. Whose Lenin is it Anyway? Viktor Shklovsky, Boris Eikhenbaum and the Formalist-Marxist Debate in Soviet Cultural Politics (A view from the Twenties) // The Russian Review. 1996. Vol. 55. № 1. P. 65–79; Kosáková H. Formalismus v polemice s marxismem. K dějinám jednoho zápasu // Formalismus v polemice s marxismem. Antologie textů. Studie / Sest., přeložila z ruštiny Hana Kosáková. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017. S. 93–143.
716
Левченко Я. Борис Эйхенбаум: от устройства текста к строительству быта // Формальный метод: антология русского модернизма: В 3 т. Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016. Т. 2: Материалы / Под ред. С. Ушакина. С. 457.
717
Эйхенбаум Б. Указ. соч. С. 671.
718
На эту проблему, в частности, одним из первых указывает Зенкин. См.: Зенкин С. Работы о теории: Статьи. С. 305–325.
719
Там же. С. 308.
720
Бойко В. Указ. соч. С. 161.
721
Ханзен-Лёве О. Указ. соч. С. 387.
722
Зенкин С. Указ соч. С. 312.
723
К примеру, Л. Гинзбург в своих воспоминаниях пишет: «Разумеется, и мы его оскорбили в самом чувствительном; мы встретили его новую, любимую, вынянченную научную идею единым фронтом недоброжелательства и сухих подозрений». См.: Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 396. Обстоятельствам споров старших и младших формалистов (в том числе Гуковского и Бухштаба) посвящены исследования Д. Устинова, К. Осповата, Я. Левченко, С. Савицкого. См. также: Отяковский В. С. Из полемик вокруг формализма: К. Шимкевич о «Литературном факте» Ю. Тынянова // Летняя школа по русской литературе. 2020. Т. 16. № 1/2. С. 130–147.
724
В частности, Ханзен-Лёве отмечает: «…им казалось, что подобным образом им удастся добиться признания своей синхронной позиции в качестве теоретиков и практиков искусства и с помощью ссылки на „литературный быт“ интегрировать в него все те инстанции, которые – находясь по ту сторону имманентной „эволюции приемов“ – с позиций власти определяли действия издательств, цензуры, все материальные и экзистенциальные условия, детерминирующие работу писателя (и теоретика)». См.: Ханзен-Лёве О. Указ. соч. С. 387.
725
Эйхенбаум Б. Указ. соч. С. 615.
726
Левченко Я. Борис Эйхенбаум. С. 459.
727
Эйхенбаум Б. Указ. соч. С. 621.
728
С. Матвиенко, рассматривая в своей статье полемику в «Червоном шляхе», не разграничивает позиции участников: «Все три статьи имели полемический характер и обороняли марксистскую методологию от „замашек“ со стороны формалистов. Кроме того, все они (статьи. – Г. Б., А. Д.) свидетельствуют о достаточно поверхностном способе ведения дискуссии…» См.: Матвієнко С. Дискурс формалізму: український контекст. Львів: Літопис, 2004. С. 24.