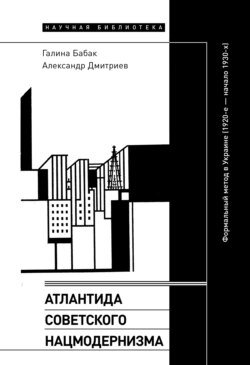Читать книгу Атлантида советского нацмодернизма. Формальный метод в Украине (1920-е – начало 1930-х) - Галина Бабак - Страница 9
Часть вторая
Русский формализм и становление литературной теории в советской Украине в 1920‐е годы
Глава 3. Формальный метод, первые национальные поэтики и модернизация теоретического инструментария
ОглавлениеКак и русские формалисты, украинские критики и теоретики двигались от вопросов изучения поэтического языка и формальных элементов поэзии к вопросам композиции и сюжетосложения. Всплеск интереса к поэзии был спровоцирован самим революционным временем, которое требовало быстрых и лаконичных форм. В свою очередь, появление нового типа письма одновременно форсировало теоретические поиски в этой области, что проявилось в критическом осмыслении и интересе к проблеме «слова как такового». Как отмечал даже Сергей Ефремов, скептически настроенный к новому и «самоцельному» искусству: «В литературе так же, как и в других сферах, переоценка начинается в основном с формального момента, с техники, именно она в стихотворной сфере и дает для „домашних революций“ гораздо больше пространства и благодарной почвы, чем в прозе»[373].
Ревизия традиций гуманитарного знания привела к появлению автора-исследователя нового типа, выступающего одновременно в нескольких ипостасях – не только как теоретика или историка словесности, но и как критика, писателя, рецензента и даже деятеля кино. Литературоведение стремилось расширить сферы своего влияния и выйти за рамки узкого академизма.
В каком-то смысле антипсихологическая и антиисторическая позиция, с которой выступила формальная школа, сопоставима с идейной платформой русских футуристов, которые призывали «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода современности»[374]. О связи русского формализма с футуризмом писали многие исследователи[375]. Почти все они солидарны в том, что футуризм служил практической платформой для теории русской формальной школы[376]. Подобно футуристам, русские формалисты считали современный им язык науки устаревшим, отсюда резкий и даже скандальный стиль ранних работ ОПОЯЗа, что вызывало раздражение у оппонентов: «Сходство поведенческих норм, стилистических особенностей, биографическая и организационная близость футуристов и формалистов были лишь внешним, наиболее заметным проявлением более глубокого фундаментального родства»[377].
С другой стороны, сближение футуристов с теоретиками формального метода среди прочего способствовало легитимации футуризма в радикально изменившемся после 1917 года поле русского языка и культуры. Как отмечал Шкловский: «Их (футуристов. – Г. Б., А. Д.) поэтические приемы – приемы общего языкового мышления, только вводимые им и в поэзию, как введена была в поэзию в первые века христианства рифма, которая, вероятно, существовала всегда в языке»[378].
Однако, в отличие от художественно-теоретического союза русских формалистов и футуристов, в украинском художественном и критическом контексте этот процесс выглядел иначе. С одной стороны, в 1917–1920 годы идейная оппозиция между отдельными художественными течениями не была настолько ощутимой и существенной (о чем говорилось выше); с другой – украинские критики и теоретики были разобщены, одновременно проявляя интерес к часто далеким тенденциям культурной и литературной жизни. В качестве примера можно привести сборник статей «Vita Nova: критические очерки» (1919) украинского критика и политического деятеля Андрея Никовского. Книга содержит четыре статьи, посвященные анализу поэзии Михайля Семенко, Павла Тычины, Якова Савченко и Максима Рыльского.
Размежевание художественных и теоретических позиций, преимущественно по идеологическим причинам, в украинской культуре происходит позже – с 1920 года, после окончательного установления советской власти. Однако и после 1920‐го можно наблюдать как сосуществование разнородных поэтических систем в творчестве отдельных авторов (к примеру, Миколы Бажана), так и их участие в антагонистических литературных объединениях.
В первой половине 1920‐х годов появляется ряд теоретических работ и учебных пособий, посвященных изучению поэзии. Среди них (речь идет только об отдельных изданиях) учебник Степана Гаевского «Теория поэзии» (1921), учебное пособие Майка Йогансена «Элементарные законы версификации (стихосложения)» (1921), практическое пособие Валериана Полищука «Как писать стихи» (1921) и его же «Литературный авангард. Полемика, критика, теория поэзии» (1926), учебник по стихосложению Бориса Якубского «Наука стихосложения» (1922), работа Дмитрия Загула «Поэтика. Учебник по теории поэзии» (1923), теоретическое исследование Бориса Навроцкого «Язык и поэзия. Очерк по теории поэзии» (1925), книга Василя Чапли «Сонет в украинской поэзии. История. Теория» (1930).
Первое, на что следует обратить внимание, – жанр вышеперечисленных работ. Почти все они называются «учебниками» или «практическими пособиями», что подчеркивает их прикладной характер. В отличие от работ ОПОЯЗа, которые в большинстве своем имеют теоретическую устремленность, украинские поэтики носят практический характер (или прескриптивный). Их основная цель – научить молодых украинских авторов «как писать стихи» и таким образом повысить уровень национальной литературы, тем самым «модернизировав» ее. Задача эта решается разными способами – от краткого (всего 10 страниц) практического пособия Полищука «Как писать стихи» до теоретически новаторской работы Якубского «Наука стихосложения», которую тем не менее сам автор называет «учебником»[379]. К примеру, делая краткий обзор стихотворных размеров, Полищук отмечает, что поэт должен исходить из того, какой размер больше подходит его произведению: «Если нужно написать что-то живое, веселое, быстрое, более всего может подойти хорей или третий пеон. ‹…› Неторопливыми почтенными размерами являются дактиль и амфибрахий, сильнее их – анапест, который резко ударяет на третий слог»[380].
Более обширный и глубокий анализ стихотворных приемов предлагает учебное пособие Йогансена «Элементарные законы версификации (стихосложения)»[381]. Работа состоит из четырех частей: «Рифма», «Размер», «Благозвучие» и «Образ». Первые три, по замечанию самого автора, посвящены «внешним техническим приемам стихосложения», последний – поэтическому образу. Новаторство работы Йогансена заключается в том, что он рассматривает приемы стихосложения, исходя из понимания особенностей национального языка. К примеру, он отмечает: «Теория 4-стопного ямба была подробно разработана А. Белым, и я на ней не буду останавливаться. Скажу лишь, что указанная гибкость 4-стопного ямба и была причиной его популярности в русской поэзии, где ударение по сравнению хотя бы с украинским языком более резкое. ‹…› Потребность в этом для украинского слова значительно меньше, следовательно, и размер этот не характерен для украинской поэзии»[382].
В целом теоретической основой поисков Йогансена является лингвистический подход Потебни, к работе которого «Мысль и язык» он апеллирует. Йогансен отмечает, что «поэтическая правда» – преимущественно психологическая: «Впечатление, которое производит на читателя точное стихотворение, не является логическим, а психологическим»[383]. Йогансен выделяет «образ» в качестве главной поэтической категории, поэтому советует молодым авторам глубже изучать родной язык, который есть источник новых образов: «…в украинской литературе каждое слово может войти в литературу – оно еще не застыло в пределах определенного словаря»[384]. И наконец, Йогансен иллюстрирует функции разных поэтических приемов на примере творчества украинских и русских поэтов: Шевченко, Котляревского, Тычины, Полищука, Хвылевого, Семенко, а также Маяковского, Мариенгофа, Есенина (примеры из стихов последних даны в переводе Йогансена).
Другим сторонником лингвистического подхода являлся Борис Навроцкий[385], который в своей работе «Язык и поэзия. Очерк по теории поэзии» (1925) предложил оригинальную теорию искусства. В предисловии Навроцкий отмечает, что его книга – попытка краткого очерка основных проблем теории литературы; задача монографии – «дать читателю возможность представить, как можно строить поэтику на основе лингвистического подхода»[386]. Методологической основой теоретических поисков Навроцкого, помимо идей А. Потебни, послужили также интуитивизм Б. Кроче, релятивизм К. Фосслера, неокантианство, символизм Андрея Белого, лингвистические теории Ф. Фортунатова, И. Бодуэна де Куртене, формализм опоязовский и более умеренный (в версии В. Жирмунского), а также экспериментальная психология и философия (Вундт, Геффдинг, Христиансен и др.).
Книга состоит из девяти глав, в каждой из которых автор последовательно отстаивает важнейший потебнианский принцип: в художественном произведении каждый элемент получает значение только благодаря обусловленности внутренней формой. При этом исследователь расширяет понятие «внутренней формы» и вводит термин «грамматическая форма»: значение слова зависит «от разных способов его расстановки»[387], т. е. на значение слова влияют соседние слова и их грамматические формы и значение. Таким образом, Навроцкий сводит понятие образности к семантике слова и игре ассоциаций (схожесть на основании смежности). Понятие «грамматической формы» пересекается с понятием «поэтической семантики» Б. Томашевского, чью работу «Теория литературы» (1925) автор называет «итогом всего, что у нас было в предыдущих исследованиях Жирмунского, Шкловского, Тынянова»[388].
Томашевский пишет: «Слово получает точное значение во фразе. ‹…› Тот факт, что значение определяется часто именно контекстом, а не самим словом, доказывается наличием в разговорном языке слов без значения»[389]. Томашевский также обращается к поэтической функции «слова-образа» и отмечает, что «„образ“ мог бы возникнуть только при изоляции слова из контекста ‹…› Но при таком обдумывании слова могут возникнуть любые психологические ассоциации ‹…›, не оправдываемые и не подсказываемые контекстом»[390]. К подобному заключению приходит и Навроцкий, подытоживая, что «поэтический язык представляет собой способ высказывания определенного внутреннего содержания или через абстрактность образов, которые даны в значении слов и выражений, или через слуховые образы, которые даны в „музыке языка“»[391].
В главе «Форма и содержание» Навроцкий присоединяется к дискуссиям вокруг формального метода в советской Украине в 1922–1923 годах[392] и в России в 1923–1925 годах[393]. Исследователь приходит к выводу, что все разногласия связаны с разностью трактовки понятия «форма», при этом он отмечает «консерватизм»[394] русских формалистов: «Шкловский, Жирмунский и другие „формалисты“, давно уже прославились как хитромудрые „контрреволюционеры“, которые мастерски маскируют показной ученостью свой внутренний консерватизм»[395]. Под «консерватизмом» Навроцкий понимает узость их теоретических поисков. В частности, Шкловский, по его мнению, рассматривает форму как «поэтическую эквилибристику художественными приемами» и испытывает отвращение к «содержанию» и «идеологии»[396]. В качестве выхода из проблемы Навроцкий предлагает «распрощаться с этим бесполезным термином» – формой – и обратиться к изучению семантики и фонетики языка, ибо, по его мнению, «на звуках строится художественность поэтического произведения»[397].
Навроцкий оспаривает и другое положение формальной теории – прием остранения как главную цель искусства (Шкловский), называя подобную позицию «формалистским гедонизмом»[398]; исследователь усматривает в акцентировке остранения продолжение эстетики Канта. При этом Навроцкий соглашается с формалистами, что «борьба и изменение технических школ в искусстве» возникает из‐за необходимости создания «нового образа», который бы вызывал новые переживания, что отвечает формалистскому понятию «изнашивания приема» в опоязовской теории литературной эволюции. Тем не менее из этого исследователь делает вывод, что эффект новизны создается с помощью «суммы технических приемов высказывания»[399], которые сами по себе не являются «формой», а только «способами высказывания»: «И в искусстве, и в науке важно именно то внутреннее содержание, которое вскрывается с помощью способов высказывания»[400]. Таким образом, по мнению Навроцкого и вразрез с тогдашними «психологистическими» ориентирами А. Белецкого, объективная теория искусства «должна интересоваться не восприятием произведения искусства, а им самим»[401], т. е. «словом-образом» в широком смысле этого слова.
Даже краткий обзор этой работы Навроцкого позволяет сделать вывод, что, с одной стороны, она является попыткой преодолеть формалистское сведение задач искусства к горизонту преимущественно художественного восприятия, с другой стороны, сам Навроцкий оказывается заложником эстетического подхода. Новаторский характер его работы заключается в приближении к пониманию произведения как структурной целостности, где значение каждого элемента исходит из телеологичности общей системы. Впоследствии этот подход будет развит в работах Романа Якобсона и Пражского лингвистического кружка.
В целом отличительной чертой всех вышеназванных сочинений по теории поэзии был ориентир на модели лингвистического и психологического знания; это говорит о сильной традиции данных подходов внутри национального контекста развития украинской филологической науки тех лет. С другой стороны, здесь можно отметить эклектичность и тенденцию к смешению исследовательских ориентиров, в частности, формального, лингвистического и психологического методов.
Вторая половина 1920‐х в украинском литературоведении и критике отмечает переход от изучения вопросов поэтического языка к вопросам техники прозы. В это время появляется огромное количество статей, посвященных разным аспектам исследования композиции, сюжетосложения и стиля, а также отдельные теоретические работы: «Как строится рассказ. Анализ прозаических примеров»[402] (1928) Майка Йогансена, «Природа новеллы» (1928, 1929) Григория Майфета, «Литературные приемы (попытка социального анализа)» (1929) Олексы Полторацкого.
Перечислим также отдельные статьи, посвященные изучению прозаических элементов произведения: «В поисках новой повествовательной формы» А. Белецкого, «Как строится литературное (прозаическое) произведение?» Б. Навроцкого, «К композиции романов Нечуя-Левицкого» С. Якимовича, «Сюжет и фабула» Я. Хоменко, «Фабула и психологизм» А. Лейтеса, «К современной теории сюжета» В. Клименко, «Социология тропов И. Франко» О. Полторацкого, «Фантастика в „Страшной мести“ Гоголя» В. Державина, «Как производить романы» и «Практика левого рассказа» О. Полторацкого, «Анализ детективной новеллы» Г. Майфета и др.[403].
Для развития указанных выше концепций в украинском советском литературоведении 1920‐х годов характерна тенденция к синтезу или даже «примирению» двух «школ» – формальной и социологической. В русской литературе формально-социологический метод, с одной стороны, активно разрабатывал Борис Арватов, который тоже рассматривал искусство как систему приемов, но «вопреки формальной школе – систему, целиком детерминированную общественной практикой»[404]. С другой стороны, помимо лефовских единомышленников Арватова вроде А. Цейтлина, синтезировать идеи социологического (точнее, марксистского) направления с общеформалистскими пытался в середине 1920‐х годов из российских авторов старшего поколения также Павел Сакулин[405]. В украинской литературе ярким последователем «формально-социологического метода» является Борис Якубский, который издал учебник «Наука стихосложения» (1922)[406]. Вместе с этим Якубский – один из пионеров социологического метода в украинском литературоведении: в 1923 году выходит его работа «Социологический метод в литературе». Научный «синтетизм» ученого проявился, например, в объяснении эволюции литературных явлений их тесной связью с жизнью: «Не только стихи, не только искусство, но и жизнь имеет свой ритм, особый для каждой эпохи, особый для каждого класса. Собственно ритмы жизни отражаются в ритмах искусства. И поэтому эволюция ритмики стихосложения отражает на себе эволюцию общественной жизни новых времен»[407].
В этом контексте следует рассматривать и работу аспиранта Якубского, писателя и критика Олексы Полторацкого[408] «Литературные приемы (попытка социального анализа)» (1929). Его исследование в определенном смысле можно считать кульминацией интереса украинских критиков к формальному методу как в науке, так и в области художественных практик: автор работает на пересечении двух регистров – аналитического и синтетического, где в качестве синтеза теоретических поисков выступает панфутуристическая (конструктивистская по своему устремлению) теория искусства, которую на протяжении 1920‐х годов разрабатывал Семенко[409].
Теоретическая основа исследования Полторацкого – это, в первую очередь, работы русских формалистов: В. Шкловского, Ю. Тынянова, Б. Томашевского, Б. Ярхо, а также лингвиста Г. Винокура, близкого к кругу опоязовцев. С другой стороны, автор обращается к работам Арватова «Искусство и классы» (1923), «Контрреволюция формы (о Валерии Брюсове)» (1923), «Синтаксис Маяковского» (1923), к отдельным статьям Семенко, которого Полторацкий рассматривает как теоретика и практика левого искусства. Социальную функцию искусства автор выводит из работ Г. Плеханова и П. Сакулина. Наконец, Полторацкий предлагает «социальную» интерпретацию приема «остранения», основываясь на фрейдизме. Рассмотрим далее подробнее, как в исследованиях Полторацкого взаимодействуют основополагающие универсалистские концепции ХХ века – формализм, марксизм и психоанализ.
В предисловии Полторацкий отмечает, что его работа состоит из статей, написанных им на протяжении 1926–1928 годов; также он пишет, что такие критики, как С. Щупак, В. Державин, С. Руман относят его теоретические поиски к «формально-социологическому методу». Сам Полторацкий оспаривает свою принадлежность к «форсоцевскому подходу» в понимании Арватова, называя себя «морфологом»: «Разница очевидна, так как морфология – это наука про организацию литературного произведения, в то время как формализм – это философская школа про единственную реальную категорию в искусстве»[410]. Подобное уточнение может быть связано с нежеланием быть причисленным к «формализму», который уже к тому времени был маркирован официальной марксистской критикой как «враждебное буржуазное направление» в науке и искусстве.
Полторацкий определяет искусство как «функциональную комплексную машину, состоящую из нескольких компонентов»[411]; функциональную направленность исследования подчеркивают и эпиграфы, взятые из журналов «ЛЕФ» и «Новая генерация»: «Стилистическая конструкция – строение телеологическое, целостное»; «Мы должны быть организаторами новой психики. Нового растущего человека»[412].
Книга состоит из двух частей – «общей» и «специальной», каждая из которых содержит четыре и пять глав соответственно. В первой части Полторацкий последовательно рассматривает вопрос генезиса литературного произведения, выделяя такие понятия как «жизненный материал» («совокупность впечатлений от внешнего мира»), «приемы обрамления жизненного материала», «словесный материал», «литературный факт» (= произведение искусства), «остранение». Вслед за формалистами Полторацкий разграничивает «жизненный материал» и «словесный»: «Литературное произведение, которое лежит перед нами, как определенный факт есть результат обрамления жизненного материала комплексом приемов»[413]. Автор отмечает, что «словесный материал» дважды организовывает «малый стиль и фактуру». При этом под «малым стилем» Полторацкий понимает лексическую и синтаксическую организацию произведения в зависимости от экономической базы (здесь он апеллирует к работе Арватова «Синтаксис Маяковского»[414]). Понятие «фактуры» (центральное в концепции панфутуризма Семенко)[415] Полторацкий определяет как «комплекс приемов, которые делают произведение „выразительным“ (тропы и т. д.)»[416].
Приемы фактуры Полторацкий разбивает на четыре группы: 1. Те, которые формируют материал (фабула, тема, сюжет, композиция); 2. Те, которые делают материал «ощутимым» (образ, прием остранения, затрудненность); 3. Приемы семантические (тематика); 4. Приемы типологические, т. е. жанровые[417]. Из этого он делает вывод, что таких категорий, как «форма и содержание», не существует. При этом категорию «содержания» Полторацкий рассматривает как «компонент стиля», а «стиль» уравнивает с понятием «фактуры»: «Реально в литературном произведении существуют только приемы, их совокупность создает стиль (фактуру)»[418].
Процесс создания «литературного факта» Полторацкий видит так: автор обрамляет и организовывает с помощью приемов малого стиля и фактуры словесный материал с целью воздействия на читателя. Далее Полторацкий переходит к рассмотрению понятия «образа» и присоединяется к критике формалистами (главным образом, Шкловского) теории «внутренней формы» Потебни, однако при этом отмечает: «Но позитивное влияние теории Потебни ни в коем случае нельзя отбрасывать. Потебня много говорит о том, что первоначальный источник поэтического языка есть простое слово»[419].
В целом Полторацкий отмечает большие достижения формальной школы в области изучения «литературных приемов», в особенности в исследованиях Томашевского. На работе последнего «Теория литературы» он основывает свой последующий анализ тропов (метафоры и синекдохи-метонимии) и обозначает два типа письма – метафорический и метонимический. В качестве примера развернутой метафоры автор приводит стихотворение Йогансена «На майдане снует ветер» («На майдані куриться вітер», 1927), сюжет которого следующий: в годовщину смерти Ленина в толпе появляется неизвестный оратор; это Ленин, он говорит: «Я всегда буду с вами, с бедным моим крестьянством, с рабочими моими любимыми», – и исчезает. В этом Полторацкий усматривает «сюжетную формулу» библейской легенды о воскрешении Христа. Другим примером развернутой метафоры, по мнению Полторацкого, является повесть Франко «Boa constrictor»; формально-социологический анализ этого произведения он предлагает в главе «Социология тропов».
Отдельное внимание Полторацкий уделяет формалистскому приему остранения и посвящает ему отдельную главу. По его мнению, наиболее емкую характеристику приема предлагает Томашевский, который пишет: «О старом и привычном надо говорить как о новом непривычном. Об обыкновенном говорят как о странном»[420]. Полторацкий также отмечает, что Шкловский в своей работе «Искусство как прием»[421] определяет остранение как прием нейтральный и универсальный, и вслед за Шкловским приводит примеры из Толстого. Основывая свои дальнейшие рассуждения на работе Фрейда «Тотем и табу» Полторацкий указывает, что «остранение у Толстого социально обусловлено».
Толстой «остраняет» картину порки крестьян, потому что он протестует против этого; в «Холстомере» Толстой глазами проблематичной лошади[422] критикует современный ему общественный строй. ‹…› Совсем не трудно провести параллель между остранением Наташи (в данном случае Наташа замещает лошадь) и взглядами Толстого на театр (см. его «Что такое искусство»). Наконец все эротические примеры у Шкловского тоже не столько «остраняют» впечатление от человеческих гениталий, сколько просто «обходят» неудобные для употребления слова[423].
Из этого Полторацкий делает вывод, что писатель остраняет вещи и поступки, когда относится к ним враждебно или ему неудобно о них говорить: «Тут, очевидно, действуют психологические законы табу»[424].
Таким образом, в своем исследовании Полторацкий предлагает интересный синтез трех основных методологических подходов, которые развивались в литературоведении и искусстве в 1920‐е годы – формального, социологического и психоаналитического. Отметим два принципиально важных момента: с одной стороны, здесь можно говорить о поиске универсального (синтетичного по своей природе) метода, который бы не просто уравновешивал обозначенные выше подходы, а делал возможным изучение сложных феноменов в литературе и искусстве. С другой стороны, очевидно желание Полторацкого выйти за узкие рамки определенной методологической системы. Важно и то, что исследователя интересует также практическое применение разработанной им системы – на примере анализа творчества украинских писателей и поэтов он демонстрирует, что именно актуализирует их творчество в современном тому или иному автору контексте (например, у Франко).
«Социальную» интерпретацию «остранения» Полторацкого подверг острой критике В. Державин в своей статье «О литературных приемах в целом и про так называемое „остранение“». Первую часть статьи Державин посвятил внимательному рассмотрению понятия «остранения», основываясь на работах Шкловского и Томашевского. Он отмечал, что само по себе «остранение» является не приемом, а результатом использования тропов, которые вещь «остраняют». Полторацкий же, по его мнению, слепо заимствует термин у Шкловского и Томашевского и встраивает его в свою готовую систему, «не замечая ни кричащих противоречий, которые возникают, ни бессмыслицы своего „метода“»: «После всех этих уточнений становится понятной степень абсурда, содержащаяся в попытке Ол. Полторацкого определить единственную социальную функцию (курсив Державина. – Г. Б., А. Д.) „остранения“ как литературного приема в целом, рассматриваемого в свете опоязовской метафизической эстетики»[425].
И наконец, приведенный выше анализ отдельных работ хорошо иллюстрирует процесс «культурного трансфера»: заимствование и творческое переосмысление отдельных элементов (и шире – целых концепций) другой культуры направлено на создание собственной национальной уникальной системы искусства и призвано «модернизировать» и усилить уже существующую культуру. При этом заимствованные элементы в большинстве случаев получают другое осмысление и приобретают новую функцию (например, «остранение» у Полторацкого).
Важно обратить внимание и на разные функции учебников и пособий по «литературности» в российском и украинском контекстах. И в том и другом случае речь шла о ликвидации элементарной словесной безграмотности, учитывая и растущий идеологически мотивированный призыв тружеников от сохи и станка в литературу (об этом специально и подробно писал еще в 1990‐е годы Евгений Добренко[426]). Но все-таки одними «протосоцреалистическими» ориентирами эта ставка на литературную учебу не ограничивалась. В конце концов, и русский формализм был тесно связан в самом начале 1920‐х с литературными студиями издательств и в меньшей степени с Всероссийским литературно-художественным институтом[427]. В нэповской России самоучители словесности порой были и формой литературно-идейной борьбы разных течений и школ (как в случае соответствующих руководств Шенгели и Маяковского[428]).
У сторонников ОПОЯЗа были и теоретически выдержанные (как у Томашевского), и более «халтурные» заказные пособия, как «Техника писательского ремесла» Шкловского. Перед самой волной горьковского призыва к литучебе начала 1930‐х в России успели выйти и коллективные работы признанных литераторов вроде «Как мы пишем»; анкеты их украинских коллег (в духе венгеровских коллекций автобиографий) остались в архивах и увидели свет почти столетие спустя[429]. В 1933 году соратник Бахтина Павел Медведев, покритиковавший авторов «Как мы пишем», выпустит в Ленинграде книгу, заглавие которой почти дословно повторит название труда Александра Белецкого десятилетней давности: «В лаборатории писателя» (ее потом переиздадут дважды в 1960‐е годы и самом начале 1970‐х).
Особенностью украинских «поэтик» был их как раз синтетический характер – ни марксизм, ни психоанализ, ни литературная игра с читателем не смотрелись в их потоке неорганично, они представали не элементами разных художественных слоев или сред (как в России, где элементарные сочинения А. Крайского никто не путал с пособиями Шенгели или более ранней книжкой В. Вересаева[430]), но частью сплава или, скорее, взвеси, образованной ускоренным развитием не только самой литературы, но и украинской литературной культуры конца 1920‐х годов.
373
Єфремов С. Історія українського письменства / Ред. М. К. Наєнко. К.: Femina, 1995. С. 472.
374
Литературные манифесты от символизма до наших дней / Сост. и предисл. С. Джимбинова. М.: XXI век – Согласие, 2000. С. 142. Ср.: Жолковский А. К. Сбросить или бросить? // Новое литературное обозрение. 2009. № 96. С. 191–211.
375
Эрлих В. Русский формализм: История и теория. СПб., 1996; Марков В. История русского футуризма. СПб.: Алетейя, 2000; Ханзен-Лёве О. Русский формализм. Методологическая реконструкция развития на основании принципа остранения. М.: Языки русской культуры, 2001; Дмитриев А., Левченко Я. Наука как прием: еще раз о методологическом наследии русского формализма // Новое литературное обозрение. 2001. № 50. С. 43–57.
376
Pomorska K. Russian Formalist Theory and Its Poetic Ambiance. The Hague-Paris: Mouton, 1968.
377
Иванюшина И. Русский футуризм: идеология, поэтика, прагматика. Саратов, 2003. С. 49. Цикл недавних работ А. Устинова, И. Пильщикова, И. Лощилова дополнительно освещает тезис о литературных, главным образом футуристических корнях раннего формализма.
378
Шкловский В. Б. Собр. соч. М.: Новое литературное обозрение, 2018. Т. 1: Революция / Сост., вступ. ст. И. Калинина. С. 213.
379
Подробнее см. следующую главу.
380
Поліщук В. Як писати вірші. Практичні поради для початківців. Харків: Всеукраїнський літературний комітет, 1921. С. 9.
381
Подробнее о самом Йогансене и его других работах см. дальше.
382
Йогансен М. Вибрані твори / Упоряд. Р. Мельників. К.: Смолоскип, 2009. С. 518.
383
Там же. С. 533.
384
Там же. С. 547.
385
Борис Навроцкий (1894–1943?) – историк литературы, критик. Окончил историко-филологический факультет Киевского университета Святого Владимира (1917), после чего заведовал кафедрой русской литературы, позже – кафедрой украинской литературы. С 1927 года работал в киевском филиале Института Тараса Шевченко. С 1935 года – научный сотрудник Института мировой литературы им. М. Горького в Москве, профессор Московской консерватории. Исследовал творчество Шевченко: «Шевченко як прозаїк» (1925), «Проблеми Шевченкової поетики» (1926), «„Гайдамаки“ Тараса Шевченка» (1928), «Проблематика Шевченкових повістей» (1930). Репрессирован в 1936 году, реабилитирован в 1957 году.
386
Навроцький Б. Мова та поезія. Нарис з теорії поезії. Харків: Книгоспілка, 1925. С. 3. См. также: Сінченко О. Неопотебнянство Бориса Навроцького // Синопсис: текст, контекст, медіа. 2015. № 2: http://synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/192.
387
Навроцький Б. Указ. соч. С. 122.
388
Навроцкий указывает, что книга писалась в 1924 году и «за это время появилась новая литература по вопросу, помимо всего, книга Томашевского. Я решил, что лучше не усложнять вопрос печати этой книги, расширяя полемический материал по литературе вопроса» (Навроцький Б. Указ. соч. С. 3). Также Навроцкий является автором рецензии на «Теорию литературы» Томашевского, см.: Навроцький Б. Формалізм чи суб’єктивний естетизм. З приводу книги Б. Томашевского «Теория литературы» (Госиздат. Ленинград, 1925) як спроби підсумку досягнень літ. «формалізму» // Червоний шлях. 1925. № 5. С. 205–209. См. Приложение.
389
Томашевский Б. Теория литературы. Л.: Госиздат, 1925. С. 27.
390
Там же.
391
Навроцький Б. Мова та поезiя. С. 64.
392
См. главу «Дискуссии вокруг формального метода в советской Украине 1920‐х годов».
393
Эрлих В. Русский формализм: история и теория / Пер. с англ. А. Глебовской. СПб.: Академический проект, 1996. С. 98–112.
394
См. подробнее о «консерватизме» Шкловского и теории остранения: Tihanov G. The Birth and the Death of Literary Theory. Regimes of Relevance in Russia and Beyond. Stanford: Stanford UP, 2019. P. 41–44.
395
Навроцький Б. Указ. соч. С. 35.
396
Навроцький Б. Указ. соч. С. 35.
397
Там же. С. 37.
398
На «гедонизм» формалистов указывает и Лев Выготский: Выготский Л. Психология искусства. М.: Искусство, 1986. С. 73.
399
Навроцький Б. Указ. соч. С. 61.
400
Там же. С. 62.
401
Там же. С. 49.
402
Подробнее об этом см. главу «Майк Йогансен „Как строится рассказ. Анализ прозаических примеров“ и „О теории прозы“ Виктора Шкловского».
403
Білецький О. В шуканнях нової повістярської форми // Шляхи мистецтва. 1923. № 5. С. 59–63; Навроцький Б. Як будується літературний (прозовий) твір? // Життя й революція. 1925. № 5. С. 63–75; Якимович С. До композиції романів Нечуя-Левицького // Червоний шлях. 1925. № 3. С. 208–217; Хоменко Я. Сюжет і фабула // Плужанин 1926. № 3. С. 8–10; Лейтес А. Фабула і психологізм // Культура і побут. 1926. № 16. С. 3; Он же. Книга про теорію роману // Культура і побут. 1927. № 5. С. 4; Клименко В. До сучасної теорії сюжету // Гарт. 1927. № 4/5. С. 120–131; Полторацький Ол. Соціологія тропів І. Франка // Життя й революція. 1927. № 4. С. 367–376; Он же. Як виробляти романи // Нова генерація. 1928. № 5. С. 364–368; Он же. Практика лівого оповідання // Нова генерація. 1928. № 1. С. 50–61; Державин В. Фантастика в «Страшной мести» Гоголя // Наукові записки Науково-дослідчої катедри історії української культури. Харків: ДВУ, 1927. Т. 6. С. 329–338; Майфет Г. Аналіза детективної новели (Ґео Шкурупій «Провокатор») // Життя й революція. 1928. № 1. С. 66–72.
404
Арватов Б. Социологическая поэтика. М.: Федерация, 1928. С. 49.
405
См. обстоятельное и вполне академическое исследование нэповских лет пера выпускника Казанского университета 1910‐х годов (в 1918 году он также работал в Одессе): Ефимов Н. И. Социология литературы: Очерки по теории историко-литературного процесса и по историко-литературной методологии. Смоленск, 1927.
406
См. подробнее об этом следующую главу.
407
Якубський Б. Наука віршування. К.: Слово, 1922. С. 25.
408
Алексей (Олекса) Полторацкий (укр. Олексій Полторацький; псевд. Ол. Озеров; 1905–1977) – писатель, сценарист, литературный и кинокритик. Окончил филологический факультет КИНО (1926). Был членом футуристического объединения вокруг журнала «Новая генерация». Участник идеологических кампаний 1930‐х. Главный редактор журнала иностранной литературы «Всесвіт» (1958–1970). По его сценарию на Одесской киностудии был снят фильм «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1959). Автор многочисленных статей по теории искусства, литературы и кинематографа, а также повестей и рассказов.
409
См. главу «Панфутуристическая концепция искусства».
410
Полторацький О. Літературні засоби (проба соціологічної аналізи). Харків: ДВУ, 1929. С. 4.
411
Там же.
412
Там же. С. 5.
413
Там же. С. 14.
414
Вслед за Б. Арватовым, который разработал свою теорию на материале поэзии Маяковского, Полторацкий предлагает анализ поэзии Семенко с помощью формально-социологического метода.
415
См. главу книги «Панфутуристическая концепция искусства».
416
Полторацький О. Указ. соч. С. 15.
417
Там же. С. 16.
418
Полторацький О. Указ. соч. С. 18.
419
Там же. С. 32.
420
Томашевский Б. Указ. соч. С. 153.
421
Интересно примечание Полторацкого к работе Шкловского «Искусство как прием»: «Мы должны отметить, что сейчас Шкловский сделал ревизию своих взглядов и приблизился к социологизму. Таким образом, эти статьи представляют для Шкловского пройденный этап. ‹…› Мы говорим про эти его статьи, ‹…› потому что есть много эпигонов „формализмa“, ‹…› которые не замечают, что их учителя уже изменили (хоть отчасти) свои предыдущие идеалистические позиции» (Полторацький О. Указ. соч. С. 96).
422
Именно так в оригинале.
423
Полторацький О. Указ. соч. С. 101–102.
424
Там же. С. 102.
425
Державін В. Про літературні засоби взагалі та про так зване «учуднення» // Критика. 1928. № 8. С. 110.
426
См.: Добренко Е. Формовка советского писателя. СПб., 1999. С. 382–407.
427
Зайдман А. Д. Литературные студии «Всемирной литературы» и «Дома искусств» (1919–1921 года) // Русская литература. 1980. № 6. С. 108–134. Подробнее о московских начинаниях (по ту сторону и формализма и социологизма) см. в магистерской диссертации О. И. Нечаевой, посвященной ВЛХИ (и написанной под руководством М. А. Кучерской в НИУ ВШЭ в 2018 году), а также в публикации: Дуардович И. На черную доску, или Юрий Домбровский в архивах ВГЛК (1925–1929) // Вопросы литературы. 2020. № 3. С. 213–276.
428
Постоутенко К. Маяковский и Шенгели (к истории полемики) // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. 1991. Т. 50. № 6. С. 521–530.
429
Как мы пишем. Л., 1930 (рецензии на книгу и ее состав рассмотрены в содержательной дипломной работе Ф. Э. Шейдаева, защищенной в СПбГУ в 2017 году: Шейдаев Ф. Э. Сборник «Как мы пишем» в литературном контексте: Дип. … бакалавра филол. наук. СПб., 2017: https://nauchkor.ru/pubs/sbornik-kak-my-pishem-v-literaturnom-kontekste-5a6f881a7966e12684ee9f9d); Самі про себе: Автобіографії українських митців 1920‐х років / Упоряд. Р. В. Мовчан. К.: Кліо, 2015; Вьюгин В. Ю. Читатель «Литературной учебы»: социальный портрет в письмах (1930–1934) // Конец институций культуры двадцатых годов в Ленинграде. М., 2014. С. 418−466.
430
Крайский А. Что надо знать начинающему писателю. Выбор и сочетания слов. Л.: Красная газета, 1927; Шенгели Г. Школа писателя: Основы литературной техники. М.: Изд-во Всерос. союза поэтов, 1929.