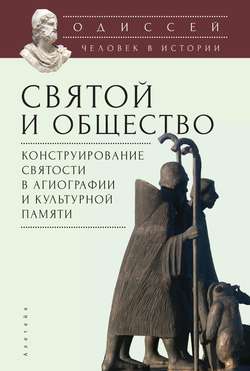Читать книгу Одиссей. Человек в истории. Святой и общество: конструирование святости в агиографии и культурной памяти - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 11
Святой и общество: конструирование святости в агиографии и культурной памяти 1
Imitatio Dei в латинской хронографии XII в.: император Ираклий и крестоносцы
Император Ираклий и крестоносцы
ОглавлениеСовершенно очевидно, что символическая роль Ираклия в эпоху крестовых походов существенно возросла. Ведь по существу он был первым «крестоносцем», который вел войну за христианскую веру: он освободил из рук неверных Иерусалим и отвоевал главную христианскую святыню. К тому же Ираклий, стремясь вернуть Честной Крест, отказался от роли победоносного государя и предпочел стать imitator Christi – так и каждый крестоносец подражал Христу, нашивая на одежду крест как символ крестоносного обета и тем самым отвечая на призыв Спасителя: «если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мф 16,24). Парадокс однако заключается в том, что пространных рассказов о византийском императоре, подобных тем, какие мы встречаем как у продолжателей псевдо-Фредегара, так и в целом в нарративных и литургических памятниках этого времени, мы не найдем в хрониках и других исторических сочинениях крестовых походов. Возможно, это связано с тем, что предания об Ираклии стали своего рода общим местом и ассоциировались даже не столько с этим историческим персонажем, сколько вообще с циклом легенд о Честном Кресте145. О важности символической фигуры Ираклия, популярности императора мы скорее можем судить по косвенным ссылкам. Например, известно, что после взятия Иерусалима 15 июля 1099 г. крестоносцами – знакового события крестоносной эпопеи – Готфрид Бульонский, сняв с себя рыцарские доспехи и надев власяницу, босиком вышел из города и, исполненный глубочайшего смирения, прошествовав вдоль внешней ограды города, возвратился в Иерусалим через Золотые ворота что напротив Масличной горы146 – тем самым он, возможно, имитировал вход Ираклия в город с Животворящим Крестом147.
Другой пример – после того, как Бодуэн II в августе 1119 г. в союзе с крестоносцами Эдессы и Антиохии одержал победу в битве при Телль Динате, в которой присутствовал Честной Крест, король отложил почти на целый месяц поездку из Антиохии в Иерусалим с целью приурочить свое возвращение к 14 сентября, празднику Воздвижения Креста, имитируя тем самым вход в Иерусалим возвратившего Крест императора Ираклия148.
О значимости образа Ираклия свидетельствует и та роль, которую связанный с его именем праздник – Воздвижение Честного Креста (Exaltatio sanctae Crucis) – играл в ритуальном пространстве латинского Востока. По свидетельствам паломников, именно в этот день в Иерусалиме открывались Золотые воротa149, в остальное же время они не только были заперты, но вход к ним преграждала искусственно нагроможденная куча камней150, быть может, в напоминание о сцене porta clausa, которую описывает Зевульф, один из паломников нач. XII в.151.
Если у хронистов крестовых походов об Ираклии мало прямых сведений об Ираклии, то написанный накануне Третьего Крестового похода Роман «Ираклий» Готье Аррасского подробно и в лаудативной манере описывает подвиги императора. В этом сочинении посвященная Ираклию средневековая нарративная и литургическая традиция находит свое полное отражение. Здесь Ираклий изображен как прото-крестоносец, деяния которого приписываются воле Бога152. Рассказ об Ираклии начинается в этом сочинении с истории обретения Честного Креста св. Еленой153. Далее описываются войны Византии против персов, в результате которых Хосров захватил главную христианскую святыню – Честной Крест – и перенес ее Персию, где cоздал свой собственный культ154. Посланный Богом ангел наделяет Ираклия божественной миссией, призывая его сразиться с неверным сатрапом155. В единоборческом поединке между императором и сыном Хосрова Ираклий побеждает врага и обращает в христианство неверных. Потом он направляется в Персию, где после безуспешной попытки обратить в свою веру Хосрова, убивает его и забирает Крест с целью перенести Его в Иерусалим156. Вслед затем Готье Аррасский обращается к уже ставшему, видимо, очень популярным сюжету porta clausa, в котором император, проявляя смирение и уподобляясь Христу, переносит Честной Крест через Золотые ворота157. Затем Ираклий возвращается в Константинополь, где императора встречают с почестями, и по случаю Воздвижения Креста учреждают в честь реликвии праздник158. Кончается поэма рассказом о том, как после смерти императора в Константинополе возвели помещенную на колонне конную статую Ираклия с простертой в сторону языческого мира правой рукой как бы в знак угрозы159. Так еще раз история Ираклия вписываетcя в историю Спасения, а сам император становится символом борьбы христиан против неверных160.
«Роман об Ираклии» можно воспринимать как литературную параллель «Истории Ираклия» – старофранцузской версии сочинения Гийома Тирского – одного из лучших историков эпохи крестовых походов XII в. Первые строки сочинения повествуют об Ираклии и дали название всему тексту161. В повествование об освобождении священного города императором Ираклием и возвращении Честного Креста вкраплена история мусульманского завоевания Сирии и Палестины. Рассказ о неудачах Ираклия, которые привели к утрате Византией своих территорий, хотя и лишен, в отличие от текста псевдо-Фредегара и его последователей, апокалиптических черт, но пронизан морально-религиозными сентенциями. Хронист описывает время, когда «усилилось гибельное учение Магомета» и мусульмане занимали все новые территории, «обращая народы мечом в свое лживое учение». На этот раз Ираклий, который призван спасти христианский мир, не сумев одолеть «гордыню неверных», отступает в Киликию, где ожидает исхода борьбы, не решаясь вступить в неравный бой. Как следствие, войска арабского халифа Умара ибн аль-Хаттаба занимают начала Газу, а затем Дамаск (634 г.)162. В итоге поражение императора как бы открывает новый этап в истории Святой Земли: святой город Иерусалим из-за грехов христиан оказывается под властью неверных, и это иго и страдания верующих длятся почти 490 лет163. По мысли Гийома Тирского Бог, допустив завоевание Иерусалима мусульманами, наказал за грехи не столько императора Ираклия, сколько весь христианский народ.
Как уже отмечалось, хроника Гийома Тирского была переведена на старофранцузский, и в этой версии была продолжена в некоторых манускриптах вплоть до 1271 г. Многие из этих рукописей иллюминированы164. Изображения императора Ираклия нередко можно видеть, как правило, на первых листах. Художники иллюстрируют деяния императора, прежде всего акт возвращения Честного Креста165, в том числе эпизод porta clausa (илл.1). На одном из начальных фолио богато иллюминированного парижского кодекса166 представлен цикл из шести миниатюр (см. илл.2), три из которых посвящены Ираклию. В верхнем регистре слева мы видим императора восседающим на троне, в следующем ярусе слева изображена сцена возвращения Честного Креста, справа – восстановление Ираклием разрушенных персидским царем Хосровом церквей. В самом нижнем ярусе слева представлен эпизод завоевания Дамаска (Газы?): мусульмане осаждают город, с крепостных стен которого христиане стреляют из арбалетов в своих противников. Это изображение и есть визуальный комментарий к вышеупомянутому рассказу старофранцузской версии хроники Гийома Тирского. При этом оно служит своеобразной моделью для многих миниатюр этого кодекса, рисующих сцены осадной войны времен крестовых походов, где противники крестоносцев изображены точно так же, как мусульмане эпохи Ираклия167. Рядом с миниатюрой, посвященной осаде Дамаска, в том же ярусе помещена другая – на ней мы видим Петра Отшельника, отправляющегося в крестовый поход. Похоже, что в иконографии совмещаются различные временные пласты. Поражения, которые христиане претерпели от мусульман в сер. VII в. во времена императора Ираклия и события крестовых походов как бы помещаются в единую временную плоскость. В миниатюрах иллюстрируется все та же, что и в хрониках, мысль: Ираклий победил Хосрова, вернул Крест, но затем не удержал Святую Землю, однако его неудачи и поражения открывают новый этап в истории – крестовые походы.
Примерно в таком же духе будет рассказывать о деяниях Ираклия Жак Витрийский (ум.1240) много заимствовавший из хроники Гийома Тирского: император сначала «с триумфом и великой славой» (cum triumpho et gloria magna) вернул Честной Крест, а затем уступил Святую Землю Умару, завоевавшему Иерусалим168. Как и Гийом Тирский, Жак Витрийский считает, что так были наказаны за свои грехи не только Ираклий, но и все христиане Иерусалима, которые в течение 490 лет (пока не пришли крестоносцы) должны были терпеть иго неверных169. Таким образом, поражение Ираклия оказывается не случайным событием, а залогом будущего крестового похода, в котором именно рыцарям-крестоносцам, суждено сыграть предначертанную им Богом роль и повторить подвиг Ираклия – подобно византийскому императору, сражавшемуся с персами за Честной Крест, вновь восстановить христианство.
Именно так – как наследники и последователи императора Ираклия – рассматриваются крестоносцы в «Анонимной истории иерусалимских королей», составленной в к. XII в. компиляции, обобщающая события крестовых походов. Отвоевание крестоносцами Иерусалима у мусульман рассматривается как один из этапов истории обретения реликвии Честного Креста и завоевания святого города Иерусалима – сначала cв. Елена, мать императора Константина, обнаруживает Честной Крест, – в память об этом отмечается праздник Inventio Crucis 3 мая, – потом Крест похищен Хосровом, затем Ираклий – imperator christianissimus – возвращает Крест в Иерусалим и восстанавливает святыню, по случаю чего учреждается праздник Воздвижения Креста 14 сентября170. Христиане обладают святым городом со времен императора Ираклия до 636 г. (sic!), когда «ученик искусителя Магомета» (discipulus seductoris Macumethi) Умар незаконным образом захватывает Святую Землю и Иерусалим (о вине Ираклия при этом не упоминается), и на 463 года устанавливается господство неверных, которые все это время владеют Иерусалимом171. Высшая точка в развитии этих событий – подвиг Готфрида Бульонского, который в качестве нового Ираклия отвоевывает святой город Иерусалим и главную христианскую святыню – Честной Крест172. Так прочерчивается линия преемственности власти от Константина к Ираклию, а потом к Готфриду, повторившему подвиг Ираклия (Готфрид оказывается новым Ираклием, а Ираклий – предтечей Готфрида) и всем иерусалимским королям. Итак, в этом тексте рыцари-крестоносцы, создавшие Иерусалимское королевство, оказываются последователями Константина и Ираклия, и фигура византийского императора используется для обоснования законности их власти в Святой Земле и Иерусалиме и обладания важнейшей христианской реликвии – Честного Креста. Соответствующие ритуалы – праздники 3 мая и 14 сентября, весьма важные для крестоносной идеологии, служат для укрепления позиций иерусалимских правителей.
* * *
Этот краткий обзор исторических памятников XII в. показывает, что символическая фигура императора Ираклия вписывается в длительную эсхатологическую перспективу. Легенда о византийском императора была весьма важна для обоснования идеи крестовых походов, его образ имплицитно присутствует в текстах хронистов, а сами крестовые походы рассматриваются как продолжение войн против персов, которые вел византийский император в VII в. Уже в первых текстах, в которых отражена реакция латинской Европы на военные победы ислама в Византии (псевдо-Фредегар), эти исторические события обрастают легендарными сведениями и насыщаются эсхатологическими тонами. В итоге хронисты XII в., часто заимствуя у предшественников, изображают поражения Ираклия в ходе мусульманского завоевания Сирии и Палестины как часть божественного плана.
Неудачи византийского императора, как показывают средневековые авторы, были предопределены Богом, подобно тому как в его победах и обретении Честного Креста также проявился божественный промысел. Мотив Reversio Sanctae Crucis, несомненно, усиливал эсхатологическую перспективу, в которую помещались рассказы об Ираклии173 – идеальном христианском правителе, подражающем Христу – а сами войны Ираклия против Хосрова изображались как борьба против Антихриста. В этом контексте победы императора над неверными, в результате которых он обрел Честной Крест, и последующие поражения, которые он потерпел от «обрезанных народов», заключаются в более длительный временный контекст, оказываясь вехами в истории Спасения. Поражение василевса со временем осмысляется как наказание за грехи, посланное Богом не только Ираклию, но и всем христианам. Вместе с тем эти несчастливые события открывают как бы новый этап христианской истории – крестовые походы. В представлениях средневековых авторов бедствия, которые терпит Ираклий, предвосхищают победы крестоносцев, которые, как и сам император, терпят поражения за грехи174, но затем побеждают неверных, поскольку победа христианства над исламом в конечном итоге неизбежна и предопределена Богом, как об этом и напоминает в своей хронике Гвиберт Ножанский175.
145
На эту тему см. : Baert B. A Heritage of Holy Wood. The Legend of the Cross in Text and Image. Boston; Leiden, 2004.
146
Albertus Aquensis Historia Herosolymitana / Ed. S.B. Edgington, Oxford, 2007. P. 436.
147
Возможно, хронист Альберт Аахенский стилизовал его действия в духе Ираклия. См.: Menzel M. Gottfried von Boullon und Kaiser Heraclius…S. 1-21.
148
Fulcherius Carnotensis Historia Herosolymitana / Ed. H. Hagenmeyer, Heidelberg, 1913. P. 632-633.
149
Le Continuateur Anonyme de Guillaume de Tyr // Itinéraires á Jérusalem et Descriptions de la Terre Sainte, rédigés en français aux XIe, XIIе et XIIIe siècles / Ed. H. Michelant et G. Raynaud. Genève, 1882. P. 151-152: «si n’i passoit nus forz seulement II. foiz l’an …le jour de Pasque….et le jour de feste Saint Croiz en septembre…». См. также: Ernoul L’estat de la citez de Iherusalem // Ibid. P. 40: «c’est a savoir le jor de Pasque Florie…et le iour de la feste sainte Crois Saltasse, pour che que par ces portes fu raportée la sainte Crois en Iherusalem, quant li empereres Eracles de Rome le conquista en Perse».
150
Peregrinatores tres: Saewulf, Johannes Wirziburgensis, Theodericus / Ed. R.B.C. Huygens, Turnhout: 1995. Р. 96: «Haec …porta intus clausa, oris lapidibus obstructa, in nullo tempore patet alicui…nisi in Exaltatione sanctae crucis».
151
Peregrinatores tres…Р. 68: «sed prius lapides cadentes clauserunt se invicem et facta est porta ut maceries integra…».
152
Ираклий так и именуется – Dieudonné. См.: Gautier d’Arras Eracles / Ed. G.R. de Lage. P., 1976. V. 225. Сочинение Готье Аррасского строится по той же нарративной схеме, что и литургический текст Reversio Sancate Crucis: описывается борьба Ираклия с персами, его победа над Хосровом, его возвращение в Иерусалим с Животворящим Крестом и пр. О самом сочинении см.: Trotter D. A. Medieval French Literature and the Crusades (1100-1300). Genève, 1988. P. 130-131.
153
Eracles, v. 5120-5214.
154
Eracles, v. 5216-5264.
155
Eracles. V. 5324-5379.
156
Ibid. V. 5520-5840.
157
Ibid. V. 6184-6396.
158
Ibid. V. 6430: « Li biaus, li preus, li aloés / fist molt grant feste, ce fu drois / a l’onor de la Vraie Crois fu la feste adont trovée / qui en septembre est celebrée»
159
Ibid. V. 6496-6516; V. 6504: «vers Paienime tent se destre / et fait sanlant de manecier / et de l’onor Dieu porcacier.»
160
Примечательно, что во время Четвертого крестового похода по сведениям Робера де Клари рыцари-крестоносцы приняли конную бронзовую статую Юстиниана, водруженную на колонне, за Ираклия. Поднятая правая рука Юстиниана также была протянута к Востоку, как бы предупреждая персов; в левой император держал шар с крестом на нем. См.: Robert de Clari Conquête de Constantinople, éd. P. Lauer. P., 1924. Cap. LXVI. P. 52.
161
«Les anciеnnes estoires dient…»: L’Estoire de Eracles empereur // Recueil des Historiens des Croisades. Historiens Occidentaux, P., 1844. T. 1. P. 9.
162
L’Estoire de Eracles…P 10-11: «Homar le fuilz Chatap qui estoit prince d’Arrabie…vint en cele terre qui a non Palestine…et ot jap rise par force une moult fort cité…qui avoit non Jadre; d’iluecques se trest vers Damas et assist la cite…Li empereres Eracles qui demoroit encore en cele terre qui a non Cilice…aprist certainement qu’il n’avoit pas gent à combater à aux…s’en partist et retornast en son païis».
163
L’Estoire de Eracles…P 13: «Einssint avint que cele seinte cité de Iherusalem par les pechiez del pueple fu en servage et dangier de la gent mescreant à mout longuement, c’est à dire IIII cenz et IIII vinz et X anz».
164
Иллюстрирование хроник началось параллельно с переводом на народный язык. Первые продолжения хроники на старофранцузском были написаны около 1232 г., а первые иллюстрации появились после 1244 г. О переводах хроники на старофранцузский язык см.: Handyside Ph. The Old French William of Tyre. Leiden, 2015; об иллюcтрировании рукописей см: Folda J. The Illustrations in Manuscripts of the History of Outremer by William of Tyre, Ph. D. diss., Johns Hopkins University, 1968, Vols.1-3; Caroff F. L’ost des Sarrasins: les musulmans dans l’iconographie mediévale (France-Flandre. XIII-XV siècles). P., 2016. p. 91-96, 103-105, 287-310.
165
См.: Ms.fr. 2628, Ms.fr. 2630, Ms.fr.2631, Ms.fr. 5220, Ms.fr. 779, Ms.fr. 2825, Ms.fr. 2827, Ms.fr.22497.
166
Речь идет о рукописи нач. XIV в. (Ms.fr. 22495) – т.н. «Романе о Годфруа Бульонском» (Roman de Godefroy de Bouillon). Об этом манускрипте см.: Rouse R. & Rouse M. Manuscripts and their makers: commercial book producers in medieval Paris 1200-1500. L.,, 2000. Vol.1. P. 235-264.
167
Во всех изображениях воспроизводится одна и та же модель, но в роли осажденных изображаются уже мусульмане. См.: Ms. f.22495, fols. 30,36,50о, 173, 361
168
Jacobus Vitriacensis Historia orientalis et occidentalis / Ed. F. Moschus, Douai, 1597. P. 7.
169
Jacobus Vitriacensis Historia orientalis…P. 44: «per quadringenta nonaginta annos iugum durrissimum infidelium et crudelium perpessi sunt»
170
Histoira regum Hierusalem latinorum // Revue de l’Orient latin. P., 1897. Vol. 5. P. 242: «14 die Septembris per imperatorem Heraclium Jerusalem fuit restituta…»
171
Histoira regum Hierusalem latinorum…P. 229: «…usque ad tempora Godefrifi de Bolon, videlicet usque ad annum Domini millesimum LXXXXIX, hoc est per quadraginta LX et III annos fuit a Christi fidelibus violenter alienata et domino Saracenoru, totaliter subjugata».
172
Ibid. P. 229-230, 240-241.
173
Не случайно две из рассмотренных нами хроник – «Пантеон» Готфрида Витербо и «История» Оттона Фрайзингского являлись по существу historia salutaris.
174
Cм., напр., описание поражения крестоносцев в битве с эмиром Мавдудом в июне 1113 г.: Fulcherius Carnoensis Historia Herosolymitana…P. 569.
175
См. рассуждения об этом Гвиберта Ножанского: Guibertus Novigentus Dei Gesta per Francos…P. 320.