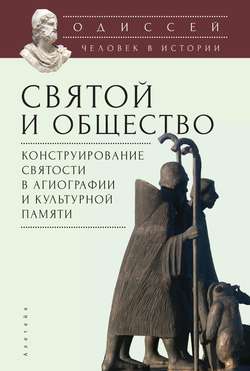Читать книгу Одиссей. Человек в истории. Святой и общество: конструирование святости в агиографии и культурной памяти - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 6
Святой и общество: конструирование святости в агиографии и культурной памяти 1
“Послушай меня внимательно, Перенний”: полемика в ранней агиографической литературе 15
“Не может человек помочь речью неспособным понимать”
ОглавлениеИтак, мы располагаем двумя вполне вероятными случаями выступления мучеников перед судом не просто с апологиями христианства, а с развернутыми речами, направленными против язычников или иудеев, и одним несомненно фантастическим рассказом о том, как должна была выглядеть успешная полемика с судьей-язычником. При анализе этих текстов можно сделать несколько наблюдений. Прежде всего, эти речи произносятся с позволения магистрата. Перенний готов выслушать Аполлония, причем делает это не без удовольствия, Полемон точно так же предоставляет слово Пионию на агоре. В тех случаях, когда судьи были не расположены выслушивать рассуждения христиан, они их быстро обрывали, как это случилось, например, с Карпом, которому наместник провинции заявил: «Позволив, чтобы ты нес много вздора, я довел тебя до хулы на богов и императоров» (Mart. Carpi gr., 21), или со Сператом, который попытался порассуждать об истинном благочестии, но услышал от судьи: “Я не стану слушать дурное о наших священнодействиях” (Acta mart. Scil., 5). При отсутствии интереса к обвиняемому весь допрос мог свестись только к вопросу “Ты христианин?” (Iust. Apol. II, 10–12; 17).
Каковы причины этой готовности позволить мученику уклониться от сути дела и даже критиковать другие религии? Конечно, это не обычное любопытство и не желание узнать о христианстве подробнее; что-то подобное могло быть вложено только в уста Марциана в фиктивных “Актах Акакия” (Acta Acacii, 4)54. Это и не желание убедиться в том, что представший перед судом виновен, так как они сразу исповедовали себя христианами. Как мы показали, в обоих случаях мученик был хорошо знаком магистратам и, более того, относился к тому же кругу. Аполлоний богат и образован, о его философских занятиях знали многие сенаторы, члены совета и “мудрецы”, собравшиеся его послушать, и сам префект с уважением отзывается о них (Mart. Apoll. arm., 23). О личном знакомстве свидетельствуют обращение просто по имени (Περέννιε) в речи мученика и отсутствие стандартных вопросов об имени и происхождении обвиняемого55. Пионий тоже хорошо известен и неокору Полемону, который вел предварительное следствие, и многим другим слушателям. Они могли посещать одних и тех же учителей риторики и общаться друг с другом – в пользу этого свидетельствуют слова Полемона о добродетелях Пиония (5, 3). Таким образом, здесь можно увидеть если не солидарность хорошо знакомых людей, то хотя бы уважительное стремление дать им уйти с достоинством: “Человек величественно проводил свой час на сцене: он должен не провалиться перед аудиторией – и нынешней, и будущей. В любом случае, он умрет, но позвольте ему, подобно гомеровскому герою, умереть, «сделав что-нибудь великое, чтобы запомниться тем, кто это видел»”56. В обоих случаях магистраты, похоже, в глубине души надеялись, что произнесение речи даст обвиняемому “выпустить пар”, втянет его в диспут и в итоге приведет к отречению от христианства57.
На первом месте для магистратов, однако, стояла более важная задача: не скомпрометировать себя ни перед центральной властью, ни перед своим обычным окружением. Для Перенния это, с одной стороны, император и его приближенные, внимательно следящие за перфектом претория, с другой – те самые “сенаторы, советники-и мудрецы”, собравшиеся послушать Аполлония; для Полемона – с одной стороны, наместник и его люди, с другой – местная смирнская аристократия. Магистраты, при всем сочувствии к обвиняемому, были прежде всего судьями, скованными юридическими рамками – законами Коммода (Mart. Apoll., 45) и Деция (Mart. Pionii, 3, 2). Они не могли освободить мучеников, так как моментально сами оказались бы на их месте, но, давая им высказаться, перекладывали ответственность за выбор на самих христиан. Предоставленная Аполлонию и Пионию возможность давала магистратам индульгенцию в глазах своего окружения: они сделали все, что было в их силах, для спасения христиан, и не их вина, что те не воспользовались представленной возможностью.
Конечно, кроме готовности магистрата выслушать, было необходимо и желание мученика выступить. Поликарп Смирнский согласился защищать свою веру перед проконсулом, но не народом: “Остальных я не считаю достойными того, чтобы перед ними оправдываться” (Mart. Pol., 10, 2). Эта готовность защищаться и нападать во многом зависела от полученного образования и, главным образом, от практики – выступлений в суде, философских диспутов, проповедей и диспутов с еретиками; разумеется, свою роль играли и характер христиан, и обстоятельства каждого конкретного дела58.
Что же двигало мучениками, когда они произносили эти развернутые речи? Пытались ли они опровергнуть выдвинутые против них обвинения, смягчить свою участь или обратить к истинной вере своих слушателей? Очевидно, нет59. В отличие от первой речи Аполлония, где еще можно увидеть попытку прийти к какому-то компромиссу (“Поклянись удачей Коммода” – “Мы молимся Богу за царствующего Коммода”), вторая полностью проникнута полемическим задором. Так как вопрос спасения жизни не стоит, Аполлоний и Пионий намного меньше скованы ролевой моделью обвиняемого, чем их оппоненты – судьи. Ключ к пониманию целей Аполлония может дать его стратегия аргументации: он использует те положения античной философии, что согласуются с учением христиан, и те аспекты христианского учения, что не вызовут протестов у язычников. Аполлоний тщательно выбирает объекты для критики, он нападает на египетских богов, но, находясь в сенате, ничего не говорит о традиционных римских божествах, а когда мученик затрагивает обожествленных людей, то ни слова не произносит об императорском культе. Аполлоний обращается прежде всего к язычникам и говорит то, что не вызовет отторжения у них. Как показал Г. Роскам, речь Аполлония и его манера поведения должны были продемонстрировать аудитории, что не все христиане были маргинальными деклассированными элементами, как считалось, а среди них были образованные люди, готовые отстаивать свои взгляды так, как подобает римскому аристократу60. Аполлоний, в отличие от других мучеников, не светится от счастья, когда идет на суд (Mart. Pol., 12, 1; Mart. Carpi lat, 4, 3; Eus. HE, V, 1, 35; 63; Mart. Perp., 18, 3 et al.), но на протяжении всего процесса ведет себя достойно и сдержанно, как настоящий римлянин, принявший осознанное решение умереть за свои убеждения.
Перед Пионием, пресвитером смирнской церкви, стояли в чем-то сходные цели, но добиться их было намного труднее из-за того, что его аудитория крайне неоднородна, на агоре собрались самые разные люди, и ему приходилось говорить языком, приемлемым и понятным и для риторов, и для рыночных дельцов, и для обычных горожан. В первой речи он попытался объяснить язычникам и иудеям, что не стоит заставлять христиан приносить жертвы чужим богам и смеяться над теми, кто это сделал; при этом, как и в случае Аполлония, нет выпадов против имеющего символическое значение для Смирны храма двух Немезид или императорского культа. Как мы уже отметили, основной объект критики Пиония – иудеи, и иной раз возникает ощущение того, что он, уделяя им непропорционально большое внимание в речи, обращенной ко всем, кто собрался на агоре, пытается расколоть единый антихристианский порыв, захлестнувший Смирну. Еще одним результатом этой полемики должно стать понимание того, что христиане не должны перебегать к иудеям, спасаясь от гонений. Этому специально посвящена вторая речь пресвитера, произнесенная в тюрьме перед пришедшими к нему верующими, как устоявшими во время гонения, так и отступниками. Цель Пиония – сохранить общину, ослабленную отступничеством епископа Евктемона, отсюда и дарование надежды на прощение отступникам, и наставления не поддаваться искушению, не предавать друг друга и не слушать врагов веры. Юридическим тонкостям здесь отведено большее место, чем в рассказе об Аполлонии, но Пионий не пытается спасти жизнь, а лишь требует соблюдать правильную судебную процедуру и не заставлять христиан силой совершать жертву: “Вы сами нарушаете свои законы: приказано наказывать, а не принуждать!” (Mart. Pionii, 16, 6)61.
Наконец, полемика, направленная не на опровержение выдвинутых обвинений, а на критику основ религиозных взглядов оппонента или затрагивающая предметы, имеющие весьма отдаленное отношение к делу, например, случаи иудейского отступничества от Бога, приводила к своего рода “выворачиванию наизнанку” сценария суда. Мученик, вместо того, чтобы смиренно принять роль обвиняемого и раскаяться в своем преступлении или молча принять приговор, превращается в обвинителя, втягивает судью в диалог и заставляет оправдываться уже его62. Ярче всего этот мотив заметен в “Актах Акакия”, и это показывает нам, что христиане – авторы и читатели мученичеств – отдавали себе отчет в этой трансформации и всячески ее подчеркивали, передавая контроль над происходящим от организаторов суда либо мученикам, либо, в крайнем случае, рассказчику.
54
Магистратам для осуждения христианина не было никакой нужды вникать в тонкости вероучения, вполне достаточно было отказа от совершения жертвоприношения. Однако если такой интерес возникал, то, с одной стороны, к услугам римлян были антихристианские сочинения вроде “Правдивого слова” Цельса, а с другой – можно было лично пообщаться с верующими вне зала суда.
55
Roskam G. A Christian Intellectual at Trial. The case of Apollonius of Rome // Jahrbuch für Antike und Christentum. 2009. Bd. 52. S. 25–26.
56
Нок А. Д. Обращение. Старое и новое в религии от Александра Великого до Блаженного Августина. СПб., 2011. С. 219.
57
В случае с Пионием такого рода надежда могла опираться на то, что многих христиан, включая смирнского епископа Евктемона, удалось заставить принести жертвы.
58
Так, хорошо образованная Перпетуя даже не пытается вступить в диалог с судьей, ограничившись признанием себя христианкой (о ее образовании см.: McKechnie P. St. Perpetua and Roman education in A.D. 200 // L’antiquité classique. 1994. T. 63. P. 279–291). Это не следствие ее природной робости: Перпетуя смело отчитала начальника тюрьмы (Mart. Perp., 16, 3).
59
Как замечает Г. Роскам, Аполлоний самой структурой своей речи и используемыми терминами мог дать понять Переннию, что они, как интеллектуалы, “могли бы найти философски приемлемое решение проблемы”, но Перенний предпочел эту возможность не заметить (Roskam G. A Christian Intellectual at Trial. S. 22–43). Нам все же кажется, что это было маловероятно, ведь Аполлоний сразу объявил себя христианином. Сходную ситуацию мы наблюдаем в “Мученичестве Юстина”, где префект Рустик неявно предлагает мученику объявить себя философом и тем самым избавиться от обвинения в христианстве, но Юстин не стал так поступать (Ранние мученичества. С. 126–127).
60
Roskam G. A Christian Intellectual at Trial. S. 38.
61
Ср. Tert. Ad Scap., 4.
62
Мы уже обращались к этой теме “выворачивания”: Пантелеев А. Д. Христианское мученичество в контексте римских зрелищ // Проблемы истории, филологии, культуры. 2014. Вып. 2 (44). С. 83–84.