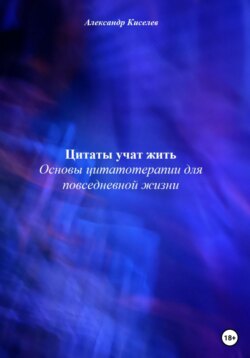Читать книгу Цитаты учат жить. Основы цитатотерапии для повседневной жизни - - Страница 19
Глава II. Отношение к судьбе
Об эгоцентризме
ОглавлениеЦитата:
«Каждый человек считает страдания, выпавшие на его долю, величайшими»
(Герман Гессе)
Личное:
Действительно, мы все крайне зациклены на себе, на своей персоне, на своих интересах и на своих проблемах. То, что происходит с нами, а не с другими, – это главная тема нашей жизни и ключевой фокус всех наших действий и активностей. Я часто подчеркиваю тезис о своей убежденности в нашей эгоцентричности. Наверное, по-другому и быть не может, так как мы не имеем никакого другого видения мира, кроме того, что осуществляется посредством наших глаз, у нас нет никакого иного жизненного опыта, кроме того, какой мы сами накопили, у нас нет никаких иных потребностей, кроме тех, которые мы имеем, у нас нет каких-либо еще чувств, кроме тех, которые мы испытываем. Мы видим все происходящее вокруг только нашими собственными глазами и никак иначе. Окружающее есть покуда есть мы, не будет нас и воспринимая нами картинка тоже погаснет. Предположу, что эти доводы могут явиться объективным оправданием нашего эгоцентризма, так часто порицаемого или обсуждаемого в негативном контексте в рамках тех или иных социальных дискуссий.
При этом надо разделить в чем-то созвучные, но содержательно различные термины «эгоизм» и «эгоцентризм». Эгоцентризм свойственен всем. Это про то, что в нашем сознании весь мир вращается вокруг нашего Я. Концептуально так оно и есть, это, как уже было сказано, связано с тем, что у нас нет никаких иных способов воспринять действительность, кроме как находясь в костюме собственного тела. Поэтому-то и все происходящее должно вертеться только около нас. По смыслу это сродни теоретическим построениям о геоцентрической или гелиоцентрической моделях мира. Эгоизм же можно рассматривать как свойство характера. Из-за эгоцентризма он тоже в какой-то степени свойственен всем нам, однако уровень его выраженности у всех индивидуален: от патологических форм, мешающих нормальной адаптации в обществе, до социально-приемлемых форм, и даже иногда до форм, связанных с дефицитом эгоистичности, что может приводить к определенному дискомфорту и даже мешать человеку нормально жить (это, например, тот случай, когда фразу «последнюю рубашку отдаст» некоторые люди воспринимают как чрезмерно буквальное руководство к действию, несмотря на то, что у самих «семеро некормленых по лавкам ждут»). Эгоизм – это не про видение всего происходящего своими глазами, а про устойчивую потребность и предпринимаемые в связи с этим шаги, направленные на то, чтобы окружающие все делали только в твоих интересах, при этом сам ты полностью игнорируешь, а порой и откровенно плюешь на потребности и интересы окружающих. Отличную демаркационную линию, отделяющую эгоцентризм от эгоизма, можно найти в высказывании Оскара Уайлда: «Жить так, как хотите вы – это не эгоизм. Эгоизм – это когда другие должны жить так, как хотите вы». Так же мне очень нравится психологический анекдот про самооценку, прекрасно иллюстрирующий мировосприятие и жизненную концепцию тех, кто живет в явно выраженной эгоцентрической парадигме, и тех, кто понимает, что помимо них, есть другие действующие субъекты, мотивация и цель жизни которых никак не связана с заботой о вашей персоне. У одного хозяина жили одновременно кошка и собака. И вот лежит собачка на коврике и думает про себя следующие мысли: «Мой хозяин меня кормит, выгуливает, причесывает, ухаживает за мной… Наверное, он – Бог…». Рядом лежит на подушечке кошечка и тоже про себя думает: «Мой хозяин меня кормит, выгуливает, причесывает, ухаживает за мной… Наверное, я – Бог…». На мой взгляд, история очень показательная и наверняка узнаваемая, не исключаю, что по двум данным противоположным установкам вы легко можете узнать кого-то из своих знакомых. При этом замечу, что кошку в данном анекдоте скорее можно назвать эгоцентриком (пусть и большим, чем собака), нежели эгоисткой, потому что в выпрашивании корма и прогулок она (будем надеяться) не устраивает истерик своему хозяину, не набрасывается на него с когтями, полностью игнорируя тот факт, что он сам голоден или ему срочно нужно бежать на работу.
Вообще мой интерес к теме эгоцентризма имеет давнюю-предавнюю историю. С первых моих размышлений о том, что может являться базовым и преимущественным мотивом действий и поступков человека, что движет им в большинстве случаев, как-то сам собой все чаще приходил ответ – эгоцентризм. Не берусь утверждать, что это объективность, что человек и правда так устроен, возможно, это всего лишь проекции моего внутреннего мира и ничего больше. Пусть так. Но и некоторые подтверждающие примеры того, что человеком движет любовь к себе, понимание себя через призму собственной жизни как центральной фигуры мироздания, на практике я тоже встречал неоднократно. Очень ярко помню один из первых эпизодов моего обращения к данной тематике. Это был дошкольный возраст. Не больше пяти лет, а может даже и чуть поменьше этого. Ехали мы с мамой домой, побывав в гостях у бабушки. А бабушка, надо сказать, человек достаточно сложного и где-то противоречивого характера, всю жизнь была ориентирована на помощь другим, она всех покрывала с ног до головы заботой, кормила до переедания и создавала уют. И вот я, будучи совсем зеленым, погрузившись в свои мысли спросил маму, когда мы стояли в ожидании разрешающего сигнала светофора: «Мам, а тебе не кажется, что все люди в первую очередь больше всего любят себя, а не других?». «Наверное, во многом именно так и происходит, – мудро ответила мне мама, – но ведь и исключения тоже есть. Например, наша бабушка. Мне кажется, что других она любит больше, чем себя, она все делает ради других». «А мне кажется, что и бабушка себя любит немного больше, чем других, – возразил я, – иначе бы она не ела, не пила, не хотела бы иногда побыть одной, не обижалась бы периодически на нас за наши слова и проступки». Тогда на этом наш философский разговор закончился, но окончательных ответов на мучающие меня вопросы и сомнения я так и не получил, и время от времени возвращался к своим размышлениям.
Вторая волна интереса к тематике эгоцентризма начала созревать у меня в период учебы в старших классах школы. В студенческие годы это вообще все дозрело до жгучего желания написать книжку про эгоцентризм, где планировалось объявить его первоисточником всех мотивов и поступков человека на протяжении всей истории человечества. В своих грезах я видел себя основоположником нового течения в науке – эгоцентрической психологии. Сейчас это все выглядит смешно и наивно, а тогда во все это я свято верил. К счастью, такую книжку я не написал. Почему «к счастью»? Да потому что в те времена я был по-юношески горяч, а от того и во многом слеп, мой максимализм и категоричность заставляли меня все видеть либо исключительно в белом, либо исключительно в черном цвете, полутонам в праве на жизнь в рамках этой палитры было отказано. Сейчас мои взгляды на этот вопрос во многом обтесались, поумерелись, стали поспокойнее, а где-то и вовсе поменялись. Но базовое ядро о том, что человеком во многих (ранее я бы сказал – во всех) случаях руководит эгоцентризм, в качестве моей убежденности остается со мной и сейчас. Тогда же, в юношеские годы, я встречал подтверждение своей теории буквально во всем (вот что значит избирательность сознания): в книгах, в лекциях преподавателей, в поступках окружающих, в действиях публичных людей и в прочих социальных и политических явлениях, а также в разговорах и дискуссиях со своими друзьями, которые практически всегда и безоговорочно соглашались с выдвинутым мною тезисом. В общем все тогда у меня упиралось в эгоцентризм, как в первоначальную основу всего сущего в человеке.
Я был уверен в том, что человек все и всегда делает исключительно ради себя и своих интересов. Дошло до того, что в диалоге с самим собой на вопрос о том, как я буду в книге обосновывать примеры альтруистических проявлений, являющихся контраргументами, опровергающими мою теорию, я отвечал: «Легко!». По моим тогдашним представлениям альтруизма на самом деле не существовало, более того, я называл его извращенной формой эгоцентризма. Например, случай Александра Матросова, бросившегося своей грудью на амбразуру вражеского дота для того, чтобы прикрыть своих товарищей, и героически погибшего при этом, я интерпретировал абсолютно извращенно. По своей молодецкой глупости и наивности я давал следующую мотивировку действий Героя: «Ну, конечно, он – воспитанник детского дома и трудовой колонии, не знавший родителей, с юношества застигнутый войной и вынужденный воевать. Очевидно, что жизнь его была не сахар. Может быть и по другим сферам жизни тоже чего-то не ладилось. Естественно в таких условиях жизнь теряет свою ценность. Возможно где-то подспудно, на бессознательном уровне, у него начали возникать суицидальные мысли, но просто покончить с собой сложно. Это поступок, осуждаемый обществом и требующий определенного мужества. А здесь в бою открывается прекрасная возможность реализовать задуманное приемлемым образом. Кроме того, могут возникнуть мысли, связанные с тщеславием: если, спасу остальных, то обо мне будут хорошо отзываться, возможно прославят как героя. Вот он тот самый эгоцентризм! Наконец-то мы докопались до него! Таким образом своим поступком он убивал сразу двух зайцев.». Самое ужасное в том, что я действительно верил в правдивость приведенной логики. Сейчас мне невероятно стыдно даже за то, что у меня просто были такие мысли. С возрастом, помудрев и повзрослев, я начал понимать, что даже подобных мыслей у человека на поле боя возникнуть не может. Там под огнем в моменте вообще мало о чем думаешь, просто показывая остаешься ты человеком или нет. Курт Левин приводил в своих работах пример, что когда солдат возвращался через какое-то время в местность, где он участвовал в боях, то он не мог узнать ее. То, что в мирное время представлялось лужайкой, деревом или бугорком для него в свое время не было этим. Он не воспринимал тогда бугорок как насыпь из земли, для него он носил чисто функциональный характер – элемент защиты, укрытие за которым можно спрятаться от пуль врага. Поэтому очевидно, что, прибыв в эту местность через короткое время после военных событий в мирном статусе ему кажется, что он видит этот ландшафт впервые. Такова психология человека. Элементарно. А я-то вон какое изощренное мудрствование в своих измышлениях развернул, претендуя на умность, а оказывается просто по наивности и незрелости… Сейчас я, конечно, так не думаю. В настоящее время для меня альтруизм называется альтруизмом, а не извращенной формой эгоцентризма. Теперь все встало на свои места, появилась однозначность в определении этих понятий. Став более взрослым, обретя жизненный опыт, я понимаю, что иногда бывают мотивы, побеждающие эгоцентризм. Пусть они не так часты, как хотелось бы, но они есть. У людей есть идеалы, есть бескорыстная любовь к другим. Особенно ярким примером является появление собственных детей, когда у человека происходит переоценка всех ценностей, личность явно и бесповоротно понимает, что у нее есть ради кого теперь жить, кроме себя, весь смысл жизни переориентируется на этого бесценного Другого. Все это способно сломать даже зашитые в нас генетически биологические механизмы самосохранения и победить тягу к жизни. Все эти самопожертвования ради сохранения вида. Здесь и речи не может быть об личностно-индивидуальном эгоцентризме.
Размышляя в свое время над тем, как назвать планируемую к написанию книгу, я остановился на варианте, предполагающем интеграцию в заголовок название песни «Позорная звезда» одной из любимых мною групп «Агата Кристи». Наименование должно было звучать как «Я – позорная звезда или основы эгоцентрической психологии». В тексте оригинального произведения есть такие строчки: «Это не беда, не твоя вина, / Ты веди нас за собой, позорная звезда.». Интуитивно для меня это было про то, что есть что-то системообразующее, побуждающее нас к чему-то большому, то что нас ведет за собой и толкает на те или иные действия. Это что-то естественное, природное. Одновременно подспудно, это что-то осуждается окружающими, но за это нельзя осуждать и критиковать («это не беда, не твоя вина»), так как это натуральное, то «что естественно, то не безобразно». Нельзя идти против своей природы, если в ней что-то заложено. Эгоцентризм всем этим характеристикам отвечал наилучшим образом. Действительно, он движет нами, действительно, не особо одобряется окружающими, но испытывать стыд и вину по этому поводу нет никакого смысла, потому что он естественен и находится в человеческой природе. Смысл, вкладываемый в название «Я – позорная звезда» был в том, что каждый человек сам для себя безусловно номер один в рамках своей жизни («я – звезда»). И это про эгоцентризм. Почему же тогда позорная? Откуда этот стыд, связанный с позором? А дело в том, что общество, в котором мы живем не поощряет проявление естественного эгоцентризма, это считается чем-то неприемлемым, позором, и человеку приходится изгаляться, чтобы как-то его прикрыть и представить под каким-нибудь удобоваримым соусом. Здесь речь идет о некотором вынужденном лицемерии.
Согласно фрейдистскому классическому психоанализу структура нашей личности представлена тремя компонентами. Есть «ид» – это наше бессознательное, природное, неизведанное, там большая часть нашей истинной человеческой природы. Там же пребывают вытесненные из сознания элементы, которые слишком травмирующи для нас или которые порицаемы обществом. Есть «суперэго» – это, так называемая, общественная надстройка, то что нам успел «напихать» социум в процессе нашего воспитания о морали, правилах, о том, что можно и чего нельзя. Это настолько входит в нашу плоть и кровь, что приобретает над нами власть в обход наших сознательных и волевых усилий. Мы краснеем и стыдимся за что-то именно из-за действия суперэго. И, наконец, есть «эго» – наше Я, наша сознательная часть, примеряющая нашу природу в лице «ид» и требования общества в лице «суперэго» и позволяющая нам адаптироваться к реальности и успешно функционировать в ней. Эго – это как искусный дипломат, все время балансирующий между двумя противоположными крайностями. Будь только ид – мы бы не сдерживали своих природных стремлений, в том числе агрессии. В крайних проявлениях мы могли бы переубивать друг друга, что несет прямую угрозу существованию общества и совместному проживанию. Если бы доминировало только сверхэго, мы перестали бы быть собой, задушили бы свою природу и потребности, стали бы управляемыми социороботами с заданной морально-нравственной программой. Но при этом бы мы начисто утратили источник жизненной энергии, наше топливо для активных созидательных действий. «Я – позорная звезда» – это про разрыв между нашей социальной личиной, которую мы предъявляем обществу, чтобы получить его одобрение и избежать санкций с его стороны, и нашей истинной природой, в число базовых элементов которой входит в том числе и эгоцентризм.
Но отвергать то, что естественно, абсолютно нельзя. Отрицать свою бессознательную часть бессмысленно, она все равно даст о себе знать через психосоматические заболевания или через проблемы, возникшие в жизни. Нам надо научиться принимать ее и по мере возможности изучать. Эгоцентризм – это одно из явлений, которое нам надо признать и принять в своей природе. Нам надо подружиться со своей тенью и с наличествующими в ней агрессивностью, злобой, аморальными вещами, прочими элементами, которые кажутся отрицательными, осуждаемыми обществом и от того подавляются и вытесняются нами. Но это не верно! Нельзя задушить свою природу. Это продолжит в нас существовать, если даже мы будем делать вид, что в нас этого нет. В природе нет ничего абсолютно плохого или абсолютно хорошего. Оценки и ярлыки всему дают сами люди. Все это в чистейшем виде условности. Вот агрессивность она плоха или хороша? Однозначно и не скажешь. Если вы на улице немотивировано без причины треснули прохожему по лицу, то это безусловно плохо. Если агрессивность помогла вам отразить нападение нападавшего маньяка, то это, конечно, хорошо. В части про соответствие своей природе это вовсе не значит, что, признав наличие у себя агрессивности надо идти и что-то разрушать. Просто называние вещей своими именами, признание, что в тебе это потенциально живет и иногда руководит тобой – это уже хорошо. Это позволяет по возможности перехватить инициативу и самому начать пробовать управлять своими импульсами, но уже сознательно. Это можно интегрировать в структуру своей личности и давать ему время от времени выход в социально приемлемых формах. Ту же агрессию можно не осуждать в себе и думать о себе в логике «как я плох и аморален», а иногда время от времени, где это уместно, использовать ее с пользой, применяя как личностную силу. Например, определенная доля агрессии позволяет защищать свои границы и отстаивать свои интересы. В противном случае, если ты будешь всем демонстрировать, что ты белый и пушистый, агрессия – это не про тебя и вообще «ты не такой», то общество тебя, конечно, примет, сказав «ах, какой замечательный беззлобный милый человек!», но при этом ты сам не заметишь, как быстро тебя начнут воспринимать «ватным» существом, на котором всем позволено ездить в своих интересах. А ты при этом будешь страдать, предавая свои истинные потребности и себя в целом. С проявлениями эгоцентризма то же самое. В умеренных формах он должен быть. Не надо пытаться его камуфлировать по крайней мере от самого себя. Со своими импульсами, называемыми обществом неприглядными, надо дружить. Кэролин Эллиот так пишет об этом в своей книге «Переходи на темную сторону! Как превратить запретные желания подсознания в источник внутренней Силы»: «<…> работа с сильными энергиями притяжения и отвращения, удовольствия и боли необходима для облегчения пробуждения. А значит, избегать ее не нужно. Почему? Потому что именно попытки избежать желаний, агрессии и всего того, что социально не одобряется, становится топливом для наших иллюзий, все глубже загоняющих нас в ловушку.»21.
Несмотря на то, что я в какой-то степени отошел от своих взглядов о радикальном эгоцентризме в человеческой природе (а вернее смягчил их и сделал более умеренными), все равно жизнь преподносит множество примеров, где он проявляется в полной красе. У меня есть знакомая с ярко выраженной эгоцентрической установкой. Она добра, иногда помогает другим людям, но в самовосприятии по наивному, по детскому мило остается на эгоцентричных позициях. Мне кажется, она даже не всегда замечает это в себе. Например, она в большинстве случаев будет звонить и общаться с человеком только в том случае, если ей что-то от него понадобится, а не просто так для поддержания отношений. Даже в формулировках фраз в ее речи все подчинено фокусу на себя. Помню, как мы с ней впервые познакомились. Это было более десяти лет назад. Я пришел на позицию линейного руководителя в одну из организаций. Она была молодым начинающим специалистом, выполняющим однообразные рутинные операции, в другой функции смежного подразделения. Нас не объединяло ничего, кроме единого большого кабинета, где размещалось еще человек десять-двенадцать. Подойдя ко мне как к новому сотруднику, пройдя через весь кабинет (даже наши рабочие места находились отнюдь не рядом), она сказала: «Здравствуйте! Вы теперь будете со мной работать?». Заметьте она не спросила: «Вы будете работать в нашей организации?» или «В нашем коллективе?» или на худой конец «В нашем кабинете?». Нет! Несмотря на то, что нас не объединял ни рабочий процесс, ни подразделение, ни должностной уровень, ни что иное из формальных признаков, она сказала «со мной!». Этот первородный эгоцентризм, оценка мира исключительно через свой взгляд на мир и через свою позицию были настолько естественны и конгруэнтны, что вызвали у меня улыбку и умиление.
Мы действительно в массе своей очень зациклены на себе. Меня не перестает удивлять поведение части религиозных и стремящихся к духовному росту людей. Все их верования предписывают им, да и сами они в своих речах декларируют ценность Другого, помощь другим, альтруизм, братскую любовь, самоотрешение и самоотречение ради другого. Но стоит открыть для всеобщего обозрения и преклонения какую-либо важную для их духовного направления святыню или иную значимую символическую вещь, как они локтями готовы распихивать стоящих в очереди ближних своих, чтобы только самому скорее эгоцентрично к ней приложиться и получить личную благодать. То же самое про тематику и мотивы обращений к высшим сущностям в молитвах и прочих воззваниях. В большинстве своем человек один на один с собой в таких практиках просит о пользе себе в чем-то, а не о благодати для всего мира. Аналогично и про очередь к прозорливым старцам – нас тянет скорее узнать, что-то про себя, про свое будущее и как наилучшем образом «соломки подстелить». Если подумать, то все это звучит действительно очень эгоцентрично. Меньшинство, по моим представлениям, составляют те, кто молится бескорыстно, ничего не прося для себя. И их, пожалуй, можно назвать истинно соответствующими ценностям того духовного направления, которое они исповедуют.
Любовь и взаимоотношения – еще одна сфера, где примеры нашего эгоцентризма способны пробиваться через красоту романтизма и идеализированных возвышенных чувств. Бывает так, что один человек говорит другому, что любит его больше жизни, самоотверженно и бескорыстно. Но, например, второй в силу каких-либо объективных причин не может быть с ним. Чтобы сделал тогда искренне и бескорыстно любящий? Скорее всего, он бы принял ситуацию как есть, оплакал бы, но признал ситуацию, в которой им невозможно быть вместе, но при этом в фокусе внимание у него было бы счастье любимого, он бы продолжал бы его любить также безвозмездно, как и раньше, но уже на расстоянии. Это вовсе не означает, что он должен был бы жертвовать своей жизнью в этом случае, речь здесь совсем не про это. Но что мы видим в реальности? Подобные примеры наблюдаются крайне редко. Чаще всего при невозможности быть вместе и единолично владеть любимым любовь не сохраняется с принятием этой данности, а как-то стремительно растворяется. Вот и скажите, чего там было больше бескорыстной любви с пожеланием истинного счастью другому человеку или эгоцентризма с желанием удовлетворения своих личных потребностей? Это не плохо, и не хорошо. Это данность. Просто желательно хотя бы самому себе на такие вопросы отвечать по-честному, избегая самообмана.
Как говорится в рассматриваемой цитате в основном мы действительно эгоцентрично превозносим свою боль, генерализируя ее до космических и вселенских масштабов. Порой даже треснувший ноготок или царапинка становятся для нас настоящей трагедией. И мы, в большинстве своем, менее отзывчивы к печалям других. Действительно, кого колышет чужое горе? Нет, мы, конечно, посочувствуем другому, повздыхаем и может даже поможем. Все это будет искренне. Но скоро про другого мы забудем, потому что видим мир только своими глазами, потому что сфокусированы только на себе и на своих проблемах. Это и есть действие эгоцентризма. У другого может быть в ноге дырка. Мы, естественно, поофигиваем от этого, но через какое-то время царапина на том же месте, но на своей ноге будет привлекать гораздо больше внимания, потому что она ежедневно с нами, оттого она и опаснее и больнее. Просто потому что это наша личная боль, а не чья-то еще. Парадоксально, но в обратную сторону, когда мы говорим о счастье, богатстве, изобилии и избытке, этот механизм не работает или, вернее, работает не так. Личное благополучие в отличие от боли мы, напротив, не считаем величайшим. Мы как будто прибедняемся, полагая, что у других есть что-то лучшее. Не знаю, почему так. Возможно, это просто наша зависть или неумение ценить то, что имеем, стремление всегда к большему и идеальному. Мы бываем неблагодарными, нам кажется, что нас все время обделяют. Это как в популярном анекдоте. Жила–была слепая девочка. Каждый раз за обедом девочка долго ощупывала содержимое тарелки руками и ныла: «Ну вот, как всегда мне меньше всех положили! Раз ничего не вижу – значит и обделить можно! Жмоты…». Маме все это надоело и решила она проконсультироваться с психологом. На что тот дал ей такой совет: «Вы, – говорит, – сварите целый тазик пельменей. Она поймет, что их невероятно много, ей жаловаться не на что будет». На следующий день мама накрывает на стол и ставит перед девочкой целый таз пельменей. Девочка садится за стол, двигает к себе пельмени, долго ощупывает содержимое руками и в итоге произносит: «Представляю, сколько вы тогда себе нахреначили…».
Какие же выводы из всего этого? Про свой эгоцентризм как про неотъемлемое свойство человеческой природы надо просто знать. Его не надо душить и пытаться спрятать. С ним надо подружиться и научиться выражать в социально приемлемых формах. Кроме этого, можно попытаться найти баланс между своим эгоцентризмом и желанием прийти на помощь другому, встать в его положение, прочувствовать то, что он сейчас чувствует. Надо пытаться проявлять альтруизм, любить других бескорыстно, пробовать помогать искренне, а не по системе «экономических взаиморасчетов». Если есть понимание, что эгоцентризм превалирует, то даже в этом можно найти мотивацию помощи другим, пусть и эгоцентрическую. Например, можно включить мышление в логике «не помогу я сейчас – не помогут мне потом» или (в зависимости от верований) «не помогу сейчас – меня потом накажут за неоказание помощи ближнему или лишат меня каких-то важных преференций в будущем». В общем как и политика, жизнь – это искусство возможного. Для эффективного функционирования нам необходимо постоянно искать баланс между своими эгоцентрическими потребностями и пользой для общества, ибо одни мы не способны выжить, мы нуждаемся в других, в их помощи и в контакте с ними. А значит и сами должны им помогать, чтобы надеяться на взаимность. Пусть звучит эгоцентрично, зато вполне действенно!
21
Эллиот К. Переходи на темную сторону! Как превратить запретные желания подсознания в источник внутренней Силы. – М.: Издательство АСТ, 2021., с. 45