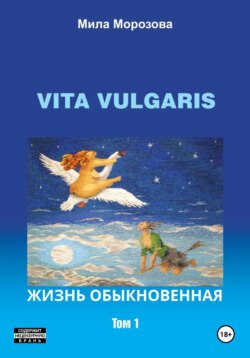Читать книгу Vita Vulgaris. Жизнь обыкновенная. Том 1 - - Страница 18
16. В Москву, в Москву
ОглавлениеРешение стать художником автоматически избавило меня от необходимости серьёзно готовиться к вступительным экзаменам. Рисование – это, ведь, не физика или математика, чего к нему готовиться? Понаслышке я знала, что в Москве есть, по крайней мере, два высших художественных училища – Строгановское и Суриковское. Перед отъездом я порылась в немногочисленных своих работах, отобрала несколько рисунков карандашом, пару акварелей и один портрет сестры, выполненный папиной пастелью, и с наивной лёгкостью провинциалки решила, что вполне готова к покорению Москвы.
В столицу мы полетели с папой. Мама не решилась отпускать меня одну, хотя ещё в девятом классе на зимних каникулах я самостоятельно летала к тёте Гале. Возможно, она хотела, чтобы меня кто-то поддерживал во время вступительных экзаменов, а может быть, приставила папу беречь мою девичью честь вдали от дома.
За два года до моего вояжа в Москву Жанна ездила поступать в Ленинградский университет одна, без сопровождающих. Там она провалилась на первом же экзамене, получив двойку по математике. Через пару дней после её возвращения позвонил молодой человек. Трубку сняла мама.
– Милу, – потребовал он, не поздоровавшись.
Мама приподняла одну бровь, посмотрела на меня с укоризной и сказала:
– Тебя.
Я подошла к телефону.
– Милка, привет! Когда встретимся? – услышала я незнакомый голос.
– Простите, кто вы?
– Ты чё, не узнаёшь? Забыла, как мы с тобой в Питере лизались?
Ну, Жанка-поганка! Назвалась моим именем (тогда зачем номер телефона давать?) и оторвалась вдали от дома почти по полной программе. Почему почти? Потому что этот телефонный незнакомец с места в карьер заявил:
– Ну, когда же, наконец, ты мне дашь?
Его наглость меня просто взбесила. Мою романтическую натуру покоробила не столько его просьба, сколько сама формулировка: «дашь!». Выражение «отдашься», в котором хотя бы есть намёк на то, что девушка отдаёт себя всю – в смысле и душу и тело, ещё можно было бы простить, тогда как «дашь» предполагает передачу в пользование одного тела, и даже не тела целиком, а только его определённой части. Это уж слишком!
– Вот свинья! – выпалила я, бросила трубку и многозначительно посмотрела на Жанку.
Сестрица моя сделала круглые глаза и едва заметным движением указательного пальца сигнализировала мне, чтобы я её не выдавала.
Парень оказался настоящим телефонным террористом и продолжал упорно названивать. Я сначала как могла отбрёхивалась, а потом перестала подходить к телефону.
Когда телефон зазвонил снова, мама не выдержала и со словами:
– Связываетесь со всякой швалью, – подняла трубку и пригрозила парню милицией.
Поклонник звонить перестал, а мама поняла, что настало время бдить.
В скобках замечу, что ровно через две недели после этого эпизода у Жанки появился настоящий возлюбленный. Мама, естественно, была в полном неведении, из чего можно сделать вывод, что её попытки блюсти своих дочерей были малоэффективны. Как говорится: чему быть, того не предотвратить. Но об этом чуть позже.
Вернёмся в Москву, которая охладила мой пыл на второй же день нашего в ней пребывания. Чтобы будущих гогенов и налбандянов зря не мучить, в училище ещё до приёма документов проводили отбор абитуриентов по представленным работам.
Мы с папой вошли в огромный зал с двусветными окнами, пол которого был сплошь покрыт рисунками и живописными работами. С трудом найдя свободное место, я разложила свои работы и стала ждать, когда ко мне подойдёт один из преподавателей, занимавшихся прополкой этой пёстрой грядки. Ждать пришлось довольно долго, поэтому у меня было время рассмотреть ближайшие работы. Все они показались мне гораздо более профессиональными, чем мои. Градус моего настроения значительно понизился, а волнение усилилось. Когда к моим художествам подошёл невысокий лысоватый дядечка, сердце моё упало куда-то в желудок. Дядечка скользнул взглядом по рисункам и акварелькам, немного дольше задержался у портрета сестры и вынес свой вердикт:
– Беспомощные работы. Не пойдёт.
Дядечка пошёл дальше, а я быстро собрала с пола свои рисунки с акварельками, которые до сих пор считала вполне хорошими работами, и буркнула папе:
– Пойдём.
Ох, как неприятно было это слышать! Папа тоже был подавлен, ведь он так гордился способностями своей любимой дочурки. Удар для меня был настолько чувствительным, что на предложение папы пойти во второе известное нам училище, и там попытать счастье, я ответила категорическим отказом. Сомневаться в своих способностях я не перестала, но поняла, что была слишком самонадеянна, что «по рисованию» тоже надо готовиться, и пожалела, что не ходила хотя бы в студию при доме пионеров. Когда мы с папой немного пришли в себя, стали думать, что делать дальше. И придумали: я буду год заниматься в какой-нибудь студии, а потом повторю попытку поступить в Строгановку.
План действий показался нам обоим очень удачным, и мы решили не возвращаться в Алма-Ату, а поехать в Ленинград к тёте Гале – отдохнуть и развеяться. В этот же вечер мы сели на поезд и наутро были в Питере. От тёти Гали я позвонила маме и сообщила ей о своих намерениях.
– Какой ещё год! – сказала мама. – Немедленно возвращайся домой и поступай!
– Куда!?
– В любой вуз!
– Я не хочу в любой, я хочу быть художником!
– Ты должна поступить в этом году! – отрезала мама.
– Не буду! – отрезала я в ответ и бросила трубку.
Вопрос был принципиальный, и я решила стоять до конца. Правда, продержалась я ровно сутки, потому что на следующий же день мама прилетела в Ленинград. Она пригласила папу на кухню для приватной беседы, после которой совершенно деморализованный папа вошёл в комнату и тихо, бесцветным голосом сказал:
– Езжай, дочурка, домой. Мама сказала, что если ты в этом году никуда не поступишь, она со мной разведётся. Вот её обратный билет. Лети по нему.
В те времена билеты были неименными, поэтому препятствий к моему скорому возвращению в Алма-Ату не было. Но самое главное, что у меня не хватило духу противостоять маминому шантажу – я не сомневалась в том, что она вполне может осуществить свою угрозу.
Домой я вернулась 29 июля, а родители остались в Ленинграде «отдыхать и развеиваться». Рыдая и размазывая по щекам сопли, я рассказала Жанке о мамином ультиматуме, на что сестра, к моему удивлению, отреагировала довольно спокойно:
– Ну что теперь делать. Поступай!
– Куда? Я же никуда не готовилась!
Жанка шлёпнула на стол «Справочник для поступающих в вузы».
– Ищи.
Из всего не очень-то широкого спектра предложений я выбрала АПИИЯ – Алма-атинский педагогический институт иностранных языков. Туда надо было сдавать литературу (сочинение), русский устный, английский и историю.
– Само то, – прокомментировала Жанна мой выбор.
(В лексиконе моей сестры словосочетание «са́мо то» означает «то, что надо»).
Документы я сдала в последний день, 31-го июля, и решила особенно не готовиться. Вот провалюсь назло маме!
Из-за двойного выпуска в 1966 году даже в этот, на мой взгляд, недоделанный вуз (четыре года обучения) был конкурс шесть с половиной человек на место. По сочинению я, как всегда, надеялась на свободную тему. Тема оказалась, прямо скажем, неудобоваримой: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». Поначалу я растерялась, но кто-то из абитуриентов спросил:
– А писать о русском или о Ленине?
– О русском, – ответил экзаменатор, хотя из названия темы вовсе не следовало, что разговор в сочинении должен идти не о вожде пролетариата, а о языке.
«Ну и славно!», – подумала я, – и накатала шесть страниц про великий и могучий, ни разу не упомянув о великом и вечно живом. Мою искреннюю любовь к родному языку оценили в четыре балла. Английский – пять, русский устный – пять. Тут меня уже взял азарт: «А ведь я могу пройти!». На экзамене по истории я попала к молодому преподавателю по фамилии Яндаров. Он был невысокого роста, кругленький, мягонький и очень обаятельный. Потом я узнала, что он был ингуш. Наверное, его ещё ребёнком вместе с родителями сослали в сорок четвёртом году в Казахстан. В Алма-Ате было много сосланных чеченцев и ингушей, правда, с высшим образованием я знала только одного.
Симпатичный экзаменатор недолго слушал мой бойкий стрёкот, прервал ответ на середине и задал дополнительный вопрос:
– Скажите, кто такие опричники?
– Опричники – это регулярная гвардия царя Ивана Грозного, – без запинки выпалила я и почему-то добавила: – Тяжёлым бременем легли они на плечи народные.
Яндаров весело усмехнулся, поставил в мой экзаменационный лист «отл.» и сказал:
– Девятнадцать баллов. Поздравляю, вы пройдёте.
Действительно, этих баллов мне хватило на то, чтобы пройти, а заодно и сохранить первичную ячейку общества в лице моих родителей.