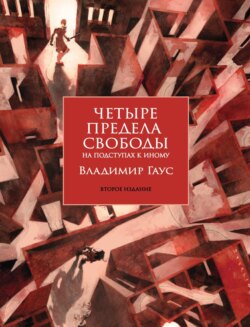Читать книгу Четыре предела свободы. На подступах к Иному. Стратегия и тактика становления личности - - Страница 24
Часть первая
Проблематиа свободы
Глава III
Три переворота
Третий переворот
ОглавлениеРассмотрим третий переворот, который происходит с очередной триадой: «Имена → Ценности → “ценники”».
Божественные Имена сообщают творению образы Божественной природы и внутритроичной жизни. Пронизывая собой традиционную Культуру, они обнаруживаются в среде человеческого в виде фундаментальных Ценностей.
Так, например, Ценности, являющиеся отражением Любви, содержат в себе общий ценностный принцип «бытия для другого», жертвенности. Другие Ценности несут в себе образы таких Имен-энергий, как Благо, Свобода, Красота и многих других16. Они неконъюктурны, безусловны и естественны, точнее – сверхъестественны. Ценности не являются ни застывшими формами, ни внешними требованиями. Они обладают свойством радикальной имманентности человеку, созданному по «образу и подобию».
В условиях разворачивающегося исторического процесса секуляризации роль сакральных институтов на себя принимает Культура, которая начинает транслировать в общество уже не сами Ценности, но их «изображения», обезличивая и адаптируя их к широким массам вне зависимости от принадлежности этих масс к соответствующей Традиции. Эти образы все еще наследуют сакральному, несут в себе его «гены»; они вполне узнаваемы. Ярким примером такого перехода является эпоха Ренессанса.
Этот процесс логично завершается окончательным отделением профанного от сакрального, а Ценностей – от участвующей прежде в их порождении Традиции17. В эпоху модерна в Культуре накапливается неустранимая «генная мутация»: в секулярном и постсекулярном сознании ключевые ценности приобретают новые, нетрадиционные звучания. Теперь они определяются лишь степенью своей утилитарности и выделяются из распадающейся целостности в автономные директивы (этические, юридические и культурные нормы), в такие навязанные господствующей культурой цели, как успех, власть, обогащение и т. п. (В терминологии Николая Лосского это «служебные ценности», «субъективные отрицательные ценности», «относительные ценности».)
В результате такой объективации они становятся внешней и доминирующий в отношении человека силой, инструментом подчинения сознания.
Теперь целеполагание и смыслопорождение Культура осуществляет в условиях полной дезориентации. В результате описанного выше процесса «падения слова», лишенная возможности восстановления и оздоровления искаженных целей Культура, подобно поврежденной природной воле Адама, начинает следовать за появляющимися в ее «поле зрения» соблазнами. Они берут начало в запросах, связанных с обслуживанием власти, капитала или массового потребителя.
В этом случае Культура либо адаптирует под них уже существующие ценности, либо создает удовлетворяющие их культурные нормативы. (Отсюда берет свое начало релятивистская теория ценностей, объявляющая их природу относительной и субъективной.)
Ценности превращаются в «ценник».
В свою очередь общество, подчиненное господствующим корпоративным и идеологическим директивам, трансформируется в массы18.
Если в слове «общество» (в его идеальном прочтении) можно видеть указание на литургическую соборность и единство, обеспечиваемое общением, то «массы» являют собой множество индивидов, предельно отчужденных друг от друга, чье «общение» сведено к коммуникации, призванной заместить зияющую онтологическую пустоту и утрату качества количеством горизонтальных, ни к чему не обязывающих социально-сетевых связей.
Массы загоняются в «единство» господствующей идеологией и новыми «ценниками». Теперь задача культуры – поддерживать устойчивое состояние разобщенности, примитизировать или вовсе не допускать мышление, обеспечивать безсубъектность общества, что позволяет в разы повысить его управляемость.
Это вполне естественное для неживого мира следствие общего принципа роста энтропии. Неживому невыгодно уменьшать энтропию и совершать восстановление первичного состояния триады: такое восстановление не может произойти естественным или случайным образом.
* * * *
Как можно убедиться, переворачивание триад есть процесс деградации от Целого к частям, от организма к механизму, от Бытия к вещам. Мы видим эту деградацию на всех уровнях общества.
Эпифеноменалисты и редукционисты отказывают человеку в свободной воле, а природа чувств объясняется ими исключительно механизмом действия гормонов; потребности тела выходят на первое место; смыслы не порождаются, а потребляются; мемы управляют мышлением и поведением; Церковь принимается за набор догм и ритуалов, а «религиозное чувство» считается верой; художественная ценность произведений искусств определяется их стоимостью, а исихастская молитва, ведущая к соединению ума и сердца, превращается в изощренную нью-эйдж-технологию, применяемую теми, кто не обладает ни умом, ни сердцем.
Теперь последние члены триад (потребности тела, чувственные формы, «ценники»), ставшие в результате «переворотов» первыми, превращаются в предлежащие перед субъектом цели. Субъект подчиняется этим целям, подобным «морковке перед носом», и сам приобретает подобный им онтический характер.
Если Дух, Воля и Имена составляли то, что было трансцендентно и вместе с тем имманентно личности, а душа, смысл и ценности – то, что составляло с человеком неразрывное имманентное единство, то вынесенные перед субъектом онтические цели теряют эти свойства. Возникает субъект-объектная двоица, и теперь субъект связан с объектом не органически, а «механически», инструментально.
Оказавшись в «перевернутом» состоянии и имея в своем распоряжении лишь дискретные инструменты, человек пытается вернуть себе тотальность, память о которой настойчиво просачивается в его жизнь.
Данное стремление нашло свое отражение в повествовании о Вавилонской башне (см. Книгу Бытия, 11:1-9). Мотивы и цели ее строителей были весьма амбициозными: «построить башню, выстою до небес, чтобы сделать себе имя». Технологии, при помощи которых планировалось этот проект осуществить, являлись типичными технологиями копирования: если до Вавилонской башни строительство велось из обтесываемых вручную камней, то теперь башня возводится из формируемых «под копирку» кирпичей.
В этом мифе можно усмотреть намек на человека, который ищет Царство Небесное не «внутрь себя», а во внешнем мире, применяя для этого «машинные», механистические технологии и осуществляя все это в конечном счете ради себя самого, «во имя свое».
Примерами социально-политических Вавилонских башен явилось строительство коммунистического, фашистского или либерального проектов. Эти, как впрочем и все иные «башни», возводимые снизу (от онтического, от раздробленной грехом человеческой природы), оказываются обречены: невозможно склеить «земляной смолой» отдельные элементы собственной психики или разобщенных между собой и не свободных в своем выборе и поступках индивидов, и достичь при этом Целого.
«Новая научно-техническая революция приводила к появлению более эффективных технологий, более изощренных систем описания Мира, но эти описания становились все более специализированными, менее глубокими и все более оторванными от понимания Мира как единого целого … заменяя его механической карикатурой»
О.Г. Бахтияров, «Постинформационные технологии: введение в психонетику» [14]
Но строители новых Вавилонских башен уже даже и не амбициозны. Время строительства башен «до небес» прошло; «небеса» мало волнуют современное человечество. Технологии обслуживают запросы потребителя, формируемые новыми «ценностями», которые, в свою очередь, определяются возможностями технологий… и т. д.
Поскольку говорить о наличии проектов подобного строительства, как правило, не приходится, оно носит довольно случайный характер. И вот уже новые «башни» стелются по земле, представляя собой беспорядочное архитектурное нагромождение уродливых форм и построек, большинство из которых давно заброшено. С другой стороны, такие «башни» не имеют даже фундамента и все больше напоминают карточные домики, готовые рассыпаться от малейшего к ним прикосновения.
И вместе с тем появляются некоторые технологии работы с сознанием, которые дают возможность форсировать первый барьер свободы и актуализировать второй и третий пределы, то есть выйти на проблематику выбора и творчества. Что очень важно, они позволяют обнаружить перманентную и неосознанную подчиненность имплицитно навязанным извне «ценникам» и преодолеть ее.
Именно с этих особых технологий, ставших последним «рубежом обороны», может быть начат обратный процесс восхождения к Целому и Бытию.
Но чтобы использоваться человеком, а не использовать его, эти технологии должны отвечать принципам аутогенности, результативности и прозрачности (см. определение психонетики во «Введении») и быть направлены в своей перспективе на пробуждение необусловленной активности сознания.
Психонетические технологии или процедуры могут быть разбиты на два типа – механистические и организмические. Под механистическими технологиями будем понимать регламентированные инструкциями алгоритмы решения поставленных задач; все те психотехнологии «копирования», которые отталкиваются от уже известного: «пойди туда, принеси то». Вместе с тем как раз регламентированность и прозрачность являются их сильными сторонами, позволяя формализовать процесс обучения, нормировать результативность и уменьшить степень субъективных искажающих факторов. Они всегда отталкиваются от самого факта нецелостности, чем и объясняется их дискретность и алгоритмичность, связанная с процедурным разделением оператора, инструмента (например, внимания) и объекта преобразования (содержаний сознания).
Такие технологии имеют ряд ограничений и сами по себе не могут охватить Целое или изменить онтологический статус падшего Адама. Поэтому по достижении пределов своего применения они должны быть преобразованы в организмические процедуры «выращивания».
Организмический подход подразумевает осуществление операций с целостностями и отвергает всякую задаваемую извне «кирпичную» регламентированность. Вместо этого он направлен на создание условий для проращивания тех «семян-намерений», которые, в свою очередь, порождаются в творческих сверхпроизвольных актах19.
Необходимо заметить, что даже сам переход от механистичности к организмичности не произволен и не регламентирован, а является следствием смещения субъектной позиции в область онтологического.
Это довольно парадоксальная задача – для того, чтобы вырастить целостность, необходимо прежде самому «прорасти» в Целое.
16
В терминологии русского философа Николая Лосского, это «объективные положительные самоценности». Для более подробного ознакомления с ценностной проблематикой заинтересованному читателю предлагается прочесть его работу «Ценность и Бытие» [12].
17
Как можно увидеть, средний член любой из рассматриваемых нами триад не может существовать автономно, сам по себе. Он либо порождается «сверху» своим онтологическим началом, либо опирается на застывшие онтические формы и определяется ими. Более того, каждый переворот можно свести к опрокидыванию именно этого связующего члена триады, являющегося ключевым звеном; за ним следуют и другие ее части. Так душа либо живет духом, либо паразитирует на теле. Смысл также не может существовать сам по себе: он, вообще говоря, либо берет свое начало в воле и порождается, либо определяется словами и прочими формами. Аналогично и оторванные от Имен, ставшие обособленными ценности вынуждены воспроизводиться объективированными культурой целями, главная задача которых – обслуживать базовые потребности индивида.
18
Подробней о процессе такой трансформации и о самом понятии «массы» см. книгу испанского философа ХХ века Хосе Ортеги-и-Гассета «Восстание масс» [13].
19
Сверхпроизвольное действие рассматривается нами в следующей части книги.