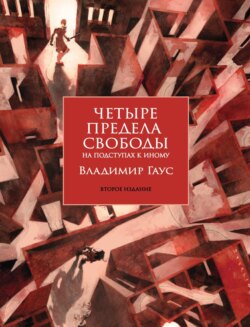Читать книгу Четыре предела свободы. На подступах к Иному. Стратегия и тактика становления личности - - Страница 4
Введение
ОглавлениеОсновная задача данной книги – рассмотрение идеи свободы. Однако под «свободой» здесь следует понимать не то рафинированное и отвлеченное понятие, которое стало достоянием культуры неоромантической эпохи и было превращено ею в своеобразный фетиш, а результат динамического восхождения, меняющего статус ее «носителя» с бытового на бытийный.
Мы не ставим перед собой цель показать, что реализация неуправляемого хаоса желаний или бунт ортега-и-гассетовского «массового человека» не является свободой; не собираемся подвергнуть сомнению потенциальное определение свободы как возможности выбора из сотен сортов колбасы (пожалуй, во всех этих случаях все же можно обнаружить некоторые следы свободы, имеющей онтологический статус). Нам интересно проследить как будет меняться понимание свободы при трансформации человеческого существа и того мира, со-творцом которого он является.
У свободы много лиц и имен. Сама попытка сформулировать, чем именно она является, была бы чересчур самонадеянной. Как бы мы ни старались это сделать, свобода по самой своей природе всегда будет ускользать из той языковой клети, в которую мы пытаемся ее поместить: никакие определения не могут исчерпать ее сути.
Поэтому будет осуществлена попытка рассмотреть свободу объемно: взглянуть на нее с разных ракурсов, сохраняя при этом некоторое пространство недосказанности и неполноты определения. Ведь свобода не столько гипотетична, сколько эмпирична, а потому нам вполне доступен прямой опыт соприкосновения с ней.
Все это многообразие должно помочь Читателю собственными силами совершить смысловую операцию интеграции представленного материала и ответить на вопрос «Что есть свобода?»
Свобода как ценность всегда присутствовала в человеческой истории и культуре. Но ее понимание неизбежно трансформировалось от эпохи к эпохе, от цивилизации к цивилизации. Красной нитью через всю историю человечества проходит понимание свободы в ее социальном и политическом аспектах: свобода от физического рабства и подчиненности чужой воле, независимость от общества, свобода слова.
Другой «смысловой нитью» является понимание свободы как возможности и способности беспрепятственно реализовывать возникающие желания, осуществлять личный произвол.
Третье понимание связано со свободой выбора. Так современный человек, вскормленный идеалами консьюмеризма, чувствует себя вполне свободным лишь тогда, когда его способность выбора не ограничена. Но уже у античных философов (и в особенности у стоиков) обнаруживаются иные смысловые оттенки данного понятия. Так Эпиктет смещает акцент свободы от общественного и телесного к духу и воле: «Без власти над собой невозможно обрести свободу»; «Свобода – это независимость мысли»; «Кто свободен телом и несвободен душою, тот раб; и, в свою очередь, кто связан телесно, но свободен духовно – свободен»; «Человек со свободной волей не может быть назван рабом».
Действительно, все попытки построить свободное общество, состоящее из индивидов, безоговорочно порабощенных собственными страстями, закономерно заканчивались диктатурой, в том числе диктатурой демократии или потребления. Ведь если отдельные индивиды не обладают личностной свободной волей, то «правильная» воля будет неизбежно навязана им сверху – властью или рекламой.
В словаре Даля одно из определений свободы гласит: «Возможность действовать по-своему; отсутствие стесненья, неволи, рабства, подчинения чужой воле». Это, в общем то, соответствует древнейшему ее пониманию. Но, прежде чем брать данное определение на вооружение и освобождаться от чужой воли, было бы неплохо разобраться: что из себя представляет наша собственная воля и есть ли она?
Заметим, что слово «воля» в современной культуре обросло бытовыми коннотациями и опошлилось многочисленными руководствами «для чайников» с «говорящими» названиями: «Как развить силу воли?», «Наука самоконтроля» и т. п. Такая «сила воли», обычно сопровождаемая «сжатыми зубами и сдвинутыми бровями», помогает решать некоторые задачи и даже добиваться поставленных целей. Но за фасадом подобных операций неизбежно накапливается внутренняя неудовлетворенность собой и сопутствующее ей напряжение. На поверку такая «сила воли» оказывается внешним элементом в отношении глубинных слоев человеческого существа.
Действие же той природной Воли, которая будет рассмотрена нами немного позже, отличают такие свойства, как естественность, целостность и полнота. Действие Воли неделимо, оно не содержит в себе никакого противоречия и конфликта, а потому обладает властью менять «человека сокровенного».
Это не про «побороть желание курить», а про «перестать хотеть курить», не про лицемерное «я тебя прощаю», а про искреннее и безусловное прощение другого от всей своей души, не про раскалывание себя на две противоборствующие части, а про исцеление.
Обычно свобода и воля рассматриваются в антропологическом контексте, т. е. в ключе, исключающем всякую трансцендентность. Впрочем, даже ограниченное лишь посюсторонним бытием знание свободы можно попытаться экстраполировать за пределы этого горизонта. Можно превратить это знание и в способ указать на то, образом чего является свобода.
Хотя некоторое отступление от «горизонтального правила» было осуществлено еще Платоном, наиболее громкое трансцендентное звучание идея свободы получила с приходом в мир христианства. Это произошло на стыке двух эпох, в синтезе античной философии с религией откровения Нового завета. Христианская традиция дополнила понимание свободы новым смыслом: в своем предельном значении свобода стала пониматься как синергийное отношение двух воль – человеческой и Божественной.
Доказать фундаментальное наличие свободы невозможно, поскольку она является реальностью, имеющей субъективное, личностное измерение, познаваемое в опыте. Факт свободы не может быть ни установлен, ни опровергнут приборами или внешним наблюдателем: так многочисленные эксперименты Либета «доказывают» отсутствие свободы воли лишь в ангажированных интерпретациях сторонников редукционизма, произвольно подменяющих причину следствием и сводящих субстанцию к субстрату.
Поэтому мы ограничимся лишь общим указанием на существование необходимого условия свободы: на наличие фундаментальной неопределенности, лежащей в основании всех уровней бытия и перечеркивающей детерминизм как фатальность1.
Любые попытки апологии свободы перед теми, кто заранее отказывает ей в существовании, являются делом совершенно бесперспективным. Более того: даже вредным, поскольку могут стать в некотором смысле формой «принуждения к свободе», а свобода не терпит принудительности.
Таким образом, эта книга адресована тем, для кого свобода уже стала частью действительности, и всем «заинтересованным лицам», чья позиция допускает хотя бы саму возможность необусловленного действия.
В завершение следует добавить, что одним из лейтмотивов книги станет рассмотрение проблематики Иного.
Об Ином нельзя сказать прямо, на него не получится указать пальцем. Поэтому все, что мы можем сделать – это лишь намечать подступы к нему, указывать на то, чем оно не является. А еще – попытаться создавать условия для его проявления. Но – вне всяких гарантий результата.
1
См. более подробное рассмотрение данного вопроса в статье А.А. Гриба «Квантовый индетерминизм и свобода воли» [1].