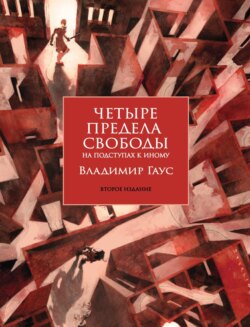Читать книгу Четыре предела свободы. На подступах к Иному. Стратегия и тактика становления личности - - Страница 5
О структуре книги
ОглавлениеВ самой первой, «спойлерной» главе, под названием «Четыре предела свободы», будут кратко рассмотрены «четыре свободы», три из которых принадлежат к онтическому уровню (то есть к горизонту человеческого существования), и один – к онтологическому.
Три «онтические» свободы – это свобода от непроизвольности, свобода от выбора и свобода творчества.
Онтологическая свобода, в свою очередь, есть размыкание границ сугубо человеческого и появление вертикального измерения. Как мы сможем убедиться, получившееся в итоге такого размыкания находится уже за рамками, определенными противопоставлением свободы и несвободы. Это – нечто «за пределами» свободы.
В качестве способов достижения, а затем и преодоления онтических пределов будут применяться технологии и процедуры работы с сознанием, детально разработанные в рамках психонетического подхода2. В свою очередь, для описания методов достижения онтологического размыкания автором будут рассматриваться средства, присущие православной традиции. Вопрос о том, возможно ли и как именно возможно такое размыкание в рамках иных традиций, мы оставляем в стороне.
Кроме классификации по «четырем пределам свободы» мы вводим еще одну важную нормировку, которую назовем «три уровня (или три плана) бытия». Эти уровни вводятся, чтобы методически структурировать используемый в книге материал.
Три уровня, или плана бытия:
Первый уровень: Консциентальный
Второй уровень: Антропологический
Третий уровень: Синергийный
Рассмотрим их здесь подробней.
1. Консциентальный уровень (от лат. conscientia – сознание) представляет собой «мир» сознания. Оно может рассматриваться нами автономно от других «составляющих» человека, поскольку для изучения сознательных феноменов достаточно обладать одной лишь способностью осознавать.
Основные понятия, используемые при рассмотрении данного плана бытия3:
– Я (Субъект)
– Сознание
– Воля
Для исследования сознания мы будем придерживаться феноменологического подхода. Однако – без претензии на непогрешимое соответствие одноименному философскому направлению, разработанному Эдмундом Гуссерлем.
Феноменологичность здесь будет означать в первую очередь следование принципам опытного, эмпирического постижения, по возможности очищенного от мистики, метафизики и теологии (за исключением нескольких ссылок на греческие мифы, имеющие своей целью скорее художественное и метафорическое значение, нежели гносеологическое). Впрочем, это не должно помешать нам строить модели, адекватно описывающие феноменологию сознания.
Терминологический аппарат описания данного «плана бытия» схож с феноменологическим, но в значительной степени заимствован у психонетики (см. примеч. 2). Так или иначе, психонетическое описание генетически родственно феноменологическому.
В качестве инструмента исследования сознания мы будем использовать аутогенные психотехнические методы. Это связано с тем, что сознание обладает:
– относительной прозрачностью и понятностью протекающих в нем процессов,
– возможностью для осуществления в нем произвольных операций (например, операцией управления вниманием).
2. Антропологический, или холистический уровень. Это – весь человек как целокупность духовных, душевных, психических, ментальных и телесных устроений.
Поскольку одной из основных задач книги является рассмотрение вопросов преодоления обусловленности и «пробуждения» волевой активности, данный план бытия будет нами рассматриваться, главным образом, как органичный сплав двух «миров»: мира сознания и мира души, соединяемых в личности человека.
«Личность не часть какого-либо целого, она заключает целое в себе. Поставленный на грани умозрительного и чувственного, человек сочетает в себе эти два мира».
В.Н. Лосский, «Очерк мистического богословия Восточной Церкви» [3]
Можно сказать, что мы в стремлении к целому дополняем мир сознания и смыслов (рассматриваемый феноменологически) миром души и чувств. Данный план бытия будет рассмотрен нами концептуально с позиций, разработанных преподобным Максимом Исповедником.
Основные понятия этого уровня:
– личность (лицо),
– природа,
– природная воля.
Все они конституированы православной антропологией.
В целом эти понятия соответствуют основным терминам консциентального плана, хотя и не тождественны им (о чем дополнительно будет сказано ниже). Но это не столько концептуальная или феноменальная нетождественность, сколько контекстуальная. Поскольку рассматриваемый план бытия «шире», чем предыдущий, то и основные понятия должны рассматриваться «шире».
Так, если «Я» обладает сознанием, и рассматривается нами исключительно в рамках сознательного контекста, то личность – это тот же самый «Я-субъект», но обладающий уже всей полнотой человеческой природы (включая сознание, душу и тело) и вместе с тем не сводимый к ним.
Существует еще один термин – ипостась, который снимает данную терминологическую проблематику. Он может полноценно замещать собой слова «Я» и «личность» и применяться при описании «я-бытия» всех трех бытийных пластов. Аналогично термин «природа» включает в себя сознание, но не исчерпывается им.
Природная воля обнаруживает свое сходство с консциентальной Волей, но с той поправкой, что она есть категория, исследуемая в рамках иного подхода. Отсюда существенная (но не сущностная) разница в определениях: термин «природная воля» носит скорее концептуальный характер, в то время как «Воля», введенная нами в рассмотрение на предыдущем уровне, – феноменальна, а местами и онтологична.
На антропологическом уровне бытие замкнуто в пределах горизонта человеческого существования. Выход за его пределы будет означать добавление вертикального измерения, которое меняет онтологический статус человека. Поэтому данный тип размыкания назван онтологическим.
Способы такого размыкания обнаруживаются в христианской традиции: это аскеза, молитва, трезвение – все, что подводит человека к обо́жению и синергийному взаимодействию с Божественными энергиями. Особенно ярко эти способы отражены в практике исихазма.
Данные способы не просто организмичны, поскольку требуют задействовать всего человека целиком, включая его чувства. Они еще и мистичны, сверхъестественны, в отличие от вполне естественных методов онтического размыкания. Они «требуют» участия в этом процессе другой Личности, свободно открывающей себя всякому восходящему по «духовной Лествице».
3. Синергийный уровень. Здесь все духовно-душевные силы человека сверхъестественным образом входят в соединение и соработничество с Инобытием. Переход на этот уровень достигается путем размыкания антропологических границ и носит преображающий человека характер.
Если предыдущий план бытия строился как сплав различных начал и сил человека, то здесь рассматривается синтез человеческого и Божественного. Поскольку между человеческой природой и Божественной сущностью пролегает бесконечная онтологическая дистанция, данный синтез мы должны понимать именно как энергийный: человек входит во взаимодействие не с самой Божественной природой, а с тем, что преподобный Григорий Палама предложил называть нетварными Божественными энергиями.
Синергийная антропология была подробно разработана в трудах С.С. Хоружего, Этот метод будет, помимо прочего, использоваться нами при рассмотрении данного уровня бытийности.
Сразу отметим, что, в отличие от двух предыдущих уровней, синергийный план не имеет границ и потому принципиально открыт. Это открытость никогда не достижимого горизонта, подразумевающего возможность бесконечного приближения к мета-антропологической Цели, или Телосу.
Термины «личность», «природа» и «воля» по-прежнему сохраняются в качестве важнейших понятий данного уровня описания, но приобретают новые звучания. Это связано с тремя основными факторами.
Во-первых, на высших ступенях исихазма (мистическая молитвенная практика православия) все человеческое существо достигает небывалого уровня целостности: прекращается дробление человеческой природы на отдельные фрагменты и происходит ее соединение с Божественными энергиями-Именами. Привычная феноменологическая интенциональность (направленность) сознания трансформируется в то, что Сергей Хоружий назвал «холистической интенциональностью», а молитва превращается в безмолвное созерцание, не имеющее перед собой предметной цели.
Во-вторых, происходит то, что в православии называется обо́жением: человеческая природа, включая тело и волю, становятся сообразны тем энергиям, с которыми они соединяются.
И, в-третьих, у человека формируются новые сверхчувственные «органы», позволяющие ему воспринимать духовную реальность. Примерами этого являются переживание фаворского света, особой сердечной теплоты, видение будущего и др.
Поскольку между указанными выше разноуровневыми основными понятиями различных планов бытия прослеживаются однозначные соответствия, разделение на три бытийных уровня является удобной схемой. Она должна позволить Читателю применять метод аналогии при осмыслении наполняющих эти планы содержаний.
Эти инварианты, подобно «полисемантическим стержням», насквозь пронзают собой структуру бытийных планов и позволяют обнаруживать новые грани каждого из уровней через призму двух других.
* * * *
Структурно книга строится следующим образом.
В первой ее части будет сделана попытка проблематизировать текущее состояние человека, обнаружить причины такого состояния. Первая глава в кратком изложении наметит основные положения книги, используя для этих целей миф о Тесее и Минотавре. Она содержит в себе довольно специфическую терминологию, которую следует понимать контекстно; подробней она будет раскрыта в последующих главах.
Вторая, третья и пятая части будут посвящены основным положениям «трех планов бытия» и проблематике Иного.
В четвертой части рассматриваются способы преодоления главных «онтических барьеров свободы»; они не разбиваются по трем уровням, поскольку имеют отношение к каждому из них.
В приложение вынесены практические процедуры и методики, имеющие, главным образом, выраженный психонетический характер. Знакомство с ними предлагается Читателю, чтобы проиллюстрировать некоторые положения и понятия этой книги.
* * * *
В самом общем виде преодоление «четырех пределов свободы» сводится к двум основным стратегиям:
I. Обнаружение субъектной де-центрированности, связанной с отождествлением субъекта со структурами сознания (или, в другом описании – смешением личности с природой) → разотождествление с ними → преобразование этих структур.
II. Обнаружение и прекращение непроизвольности (упроизволение) → преодоление произвольности → сверхпроизвольность. Здесь необходимо обратить внимание на то, что выражение «произвольное действие» не всегда тождественно «волевому действию», как оно рассматривается в психонетике, поскольку волевое действие в своем предельном и небытовом смысле не обусловлено ни личностью, ни теми целями, которые она ставит. Пока произвольность и непроизвольность предлагается понимать так, как они обычно понимаются в психологии.
Дадим этим важным для нас терминам (произвольное и непроизвольное действие) первичные определения:
Непроизвольное действие – импульсивное или неосознанное действие, реакция на внешний раздражитель или внутренний стимул, рефлексы, автоматизмы. В отношении такого действия мы обычно выносим вердикт: «со мной произошло» или «случилось помимо меня». Пример: «Я рассердился». По умолчанию подразумевается, что за такое действие мы не готовы нести всю полноту ответственности, поскольку субъект такого действия, а, стало быть, и ответственности, для нас самих не вполне определен.
Произвольное действие – действие, определяемое сознательно поставленной целью; способность подчинять целям свое поведение и психические процессы. (Обратим внимание на важный момент: цели здесь первичны.) Такое действие всегда «принадлежит мне»; в отношении этого действия мы всегда можем утверждать: «это сделал я». Пример – «Я осознанно уволился с работы».
Но помимо этих двух типов действия, составляющих методически важную для нас оппозицию «произвольное-непроизвольное», необходимо ввести еще один тип действия, который нам не всегда очевиден. Назовем его сверхпроизвольным действием.
Его описанию и способам достижения будет посвящена значительная часть книги; пока же определим его как действие, не присвоенное себе локальным «я», но при этом осуществляемое «не без моего участия».
Такое действие больше, чем произвольность. В отличие от произвольной активности, которая «делается мной» из привычного состояния сознания, сверхпроизвольность является волевым саморазворачивающимся процессом, инициируемым тем активным и единым началом, которое еще не «расслоилось» на локальное «я», действие и его рефлексию. Мы можем обнаруживать результаты такого действия, но в привычном смысле слова «я» им не управляет, поскольку не порождает его.
* * * *
В заключение необходимо сказать несколько слов о тех затруднениях, которые возникают при попытке согласовать понятийно-терминологические аппараты различных бытийных уровней между собой. Поскольку эти уровни в контексте книги не являются замкнутыми на самих себя и пересекаются друг с другом (как, например, в четвертой части, являющейся синтезом консциентального и антропологического планов), между разноуровневыми терминами, обозначающими одни и те же категории, необходимо установить соответствия.
Но при попытке «перенести» ключевой термин «сознание» из феноменологического или психологического описания в богословское, появляются определенные сложности, связанные со спецификой понятийно-терминологического аппарата православной антропологии. Так, пожалуй, термин «сознание» наиболее близок антропологическому понятию «ум» (греч. νοῦς – разум, мысль, дух), но вовсе не тождественен ему.
Данное затруднение можно объяснить не только античными корнями богословия, унаследовавшего у древних такие понятия, как дух, душа, мышление, разум, но и исключительным многообразием определений «сознания» в современном мире (часто противоречащих друг другу).
Впрочем, данная ситуация зеркальна: важнейшее понятие православной антропологии «душа» практически не обнаруживается в психологии и большинстве философских систем, заменяясь не вполне релевантным ему понятием «психика».
Аналогичная ситуация возникает и с пониманием воли, определяемой в богословии как «стремление к сообразному с природой», а в психонетическом описании – как ничем не обусловленная творческая активность.
Впрочем, по убеждению автора, такое различие между определениями не является критическим. Более того, можно обнаружить как в процессе «восхождения» в ту точку, из которой проясняется замысел книги, разница между этими понятиями постепенно исчезает: так Воля к творчеству и Воля к Благу объединяются в своей общей направленности к Иному.
Таким образом, указанные выше понятия могут рассматриваться не как взаимоисключающие, но как дополняющие и обогащающие друг друга новыми смысловыми оттенками (с поправкой на общий контекст и с учетом соответствующих оговорок по тексту книги).
В Приложении № 4 в помощь читателю будет приведена классификация основных терминов различных «бытийных уровней» на предмет их соответствия друг другу «в первом приближении».
2
Термин «психонетика» был предложен в 1970 году японским предпринимателем Кадзумой Татеиси для обозначения новой постинформационной парадигмы, которая должна прийти на смену эре информационных технологий. Под психонетикой здесь следует понимать концепцию, объемлющую совокупность психотехнологий, построенных на единой методологической базе и направленных на решение конкретных конструктивно поставленных задач с использованием свойств, присущих психике и сознанию. Психонетике свойственен инженерный подход (т. н. «инженерия сознания»), в основании которого лежат волевые психотехники: инструменты работы с собственным сознанием. Их главной особенностью является личная волевая активность. В своем перспективном измерении психонетика направлена на пробуждение в человеке свободной, ничем не обусловленной воли. Все ее приемы должны отвечать следующим условиям: быть аутогенны, прозрачны и результативны. Автором и главным разработчиком психонетических методик является О.Г. Бахтияров (см. книги этого автора: «Постинформационные технологии: введение в психонетику», «Активное сознание», «Технологии свободы»).
3
Используемые в данной книге термины и понятия будут подробно рассматриваться в соответствующих главах: иногда через определения, иногда контекстуально, иногда через опыт, получаемый при непосредственном применении некоторых процедур работы с сознанием. «Лекциями о практиках являются сами практики, а словами, обозначающими запредельные понятия и переживания, становятся состояния, достигаемые в ходе практики» (О.Г. Бахтияров, «Активное сознание» [4]).