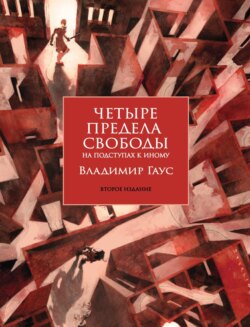Читать книгу Четыре предела свободы. На подступах к Иному. Стратегия и тактика становления личности - - Страница 27
Часть вторая
Консциентальный уровень: территория Cознания
Глава IV
Основные положения: Сознание, «Я», смысл, Воля
2. Субъект («Я»)
Оглавление2.1. Две «стороны» чистого «Я»
Зададимся вопросом: каким образом при изменении во времени нашей психики, памяти и тела, сохраняется самоидентификация личности? Почему нечто в нас, позволяющее точно себя идентифицировать и не путать с другими людьми, оказывается инвариантным во времени? Что стоит за нашим самосознанием (но не самоощущением!) и обеспечивает единство психической жизни, являясь консолидирующим ее фактором?
Пытаясь ответить на эти вопросы, мы обнаруживаем, что нет ничего более нам близкого и вместе с тем более непостижимого, чем наша субъектность, которая ничем не определима и ни к чему не сводима. Будет справедливым сказать, что «Я» стоит за каждым актом рефлексии и отличает себя от любых содержаний сознания. Но при попытке ухватить «Я» вниманием (чтобы исследовать его доступным нам способом) мы обнаруживаем, что всегда упираемся в некий «я-объект», с которым привычно себя отождествляем. «Я» неизбежно ускользает от нас, оставляя в наших руках довольно грубую подделку.
В процессе исследования субъектности перед нами встает ещё один довольно любопытный вопрос: «Я возникает только как акт осознания и самосознания, или же “Я” есть нечто большее, чем эти акты?»
Дать феноменологически точный ответ на данный вопрос весьма затруднительно. Он разделяет на два лагеря мыслителей, философов, психологов и даже Традиции. В этих условиях неопределенности, исходя из прагматических задач, стоящих перед нами, и необходимости построить «рабочую модель сознания» (которая может быть использована для описания процессов, происходящих в психонетических процедурах), мы рассмотрим «Я» с двух сторон: как методологическое допущение и как явление (т. е. подойдем к нему феноменологически).
Похожего подхода придерживается (хотя и не вполне четко его артикулирует) Эдмунд Гуссерль. С одной стороны, он вводит понятие «чистого Я» как трансцендентальную категорию, выходящую за пределы эмпирического опыта. Она позволяет ответить на вопрос «чьи20 именно переживания присутствуют в феноменологическом поле?» и тем самым определяет «Я» как принцип единства потока сознания21.
С другой стороны, «Я» по Гуссерлю обладает феноменологическим аспектом, когда определяется им через cogito22, т. е. через акт сознания:
«Среди всеобщих сущностных своеобразных черт трансцендентально очищенной области переживаний первое место подобает, собственно говоря, сопряженности любого переживания с “чистым” Я. Любое “cogito”, любой акт в указанном смысле характеризуется как акт Я: акт “проистекает из Я”. Я “актуально живо” в акте»
Э. Гуссерль, «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» [17]
«Я» является источником направленных актов сознания, а потому оно в некотором смысле может пониматься как «центр жизни» Сознания, из которого акты «излучаются» и к которому эти «лучи» возвращаются.
При этом «Я» живет в cogito актуально, т. е. акт осуществляет меня. Иными словами, «Я есть» постольку, поскольку каждый такой акт сознания проявляет (но не создает) Субъекта действия: «Я» действует, чтобы актуально быть. Отсюда становится понятным, почему «Я» не есть сам этот акт, но не является при этом и его следствием.
Далее Гуссерль делает еще одно весьма важное замечание:
«При таких специфических сплетенностях со “своими” переживаниями переживающее Я – тем не менее, вовсе не то, что могло бы быть взято для себя и обращено в особый объект изысканий. Если отвлечься от его “способов сопряжения” или “способов отношения”, то оно совершенно пусто – в нем нет никаких сущностных компонентов, нет никакого содержания, какое можно было бы эксплицировать, в себе и для себя оно не подлежит никакому описанию – чистое Я, и ничто более»
там же [17]
Таким образом, феноменологическая сторона чистого «Я» обнаруживается в событиях сознания, включая и такой его непреложный факт, как факт собственного существования: «Я есмь». (Даже сама возможность сомнения в этом факте предполагает существование сомневающегося субъекта.)
Иначе говоря, «Я» есть всегда, когда есть сознание.
Об этом пишет и Фихте:
«Всякое сознание обусловлено непосредственным сознанием нас самих»
И. Фихте, «Опыт нового изложения наукоучения» [18]
Говоря же о трансцендентальном аспекте «Я», мы будем следовать логике А.В. Смирнова и Ибн Сины. Примем в качестве одного из базовых оснований то, что чистое «Я» не сводимо к сознанию, не является его содержанием (в том числе и смысловым), но представляет собой условие сознания:
«“Я” дано мне до и вне какой-либо активности моего сознания; оно – непременное условие моего сознания. Условие не может стать содержанием»
А.В. Смирнов, «Сознание. Логика. Язык. Культура. Смысл» [9]
Надо понимать, что речь здесь идет о двух сторонах единого «Я». Подобно двуликому Янусу, оно одновременно обращено и к ничто (трансцендентальный аспект), и к бытию (феноменологический аспект). Чтобы быть, чистое «Я» «воплощается» в субстанциальном слое сознания, совпадая с ним:
«“Быть в этом слое” равнозначно “быть этим слоем”»
О.Г. Бахтияров, «Активное сознание» [4]
Можно сказать, что «Я» представляет собой непрестанное и творческое становление от небытия к бытию. Подобно границе, проведенной между ничто и нечто, «Я» не только отделяет одно от другого, но и соединяет их в себе. Стоит сделать лишь шаг в одну сторону от границы – и «Я» перестает актуально быть, в другую – и чистое «Я» теряет свою «чистоту», погружаясь в плотные слои сознания. Единственный способ для «Я» оставаться границей – осуществлять активность, порождая cogito, но не отождествляться с ними.
«Я», взятое в рассмотрение сразу с двух ракурсов, шире категории «сознание», которое рассматривается только феноменологически. По этой причине мы не можем сказать, что «нет “Я” без сознания». (Такое утверждение будет корректным только в отношении «Я», являющегося событием сознания, но не его подлинным условием.) В то же время утверждение «феноменологическое “Я” всегда есть, когда есть сознание» выглядит вполне достоверным.
Итак, «Я» обнаруживается посредством самого первого события сознания23. Из чего, конечно же, не следует, что «Я» порождается сознанием. Напротив – поскольку сознание возможно лишь как событие, можно допустить, что «Я» является «гарантом» сознания.
Обратим внимание на разницу между чистым «Я» и чистым сознанием. Если под чистым сознанием следует понимать сознание, лишенное любых наполнений и свободное от любых качеств, то «чистота» «Я» определяется не отсутствием cogito, а тем, что оно не смешано, не отождествлено с содержаниями, хотя может соприкасаться (сопрягаться) с ними в рефлексивных актах.
В этом случае Субъект24 свидетельствует о cogito посредством Сознания, а потому можно сказать, что Субъект «обладает» Сознанием.
Подводя промежуточные итоги, отметим такие важные свойства «Я», как пустотность, проявленность посредством актов, а также несводимость ни к чему (в том числе и к смыслам). Следствием принципиальной необъективируемости Субъекта является его трансцендентность всем содержаниям.
Чистое «Я», таким образом, совершенно свободно от природы, от чего бы то ни было в мире. Будучи не связанным ничем из «мира сего», «Я» является носителем и субъектом свободы. А потому любой акт, исходящий из такого «Я», свободен по определению.
2.2. Два «Я» консциентального плана
Весь наш жизненный опыт указывает на то, что мы можем с легкостью отождествиться с различными содержаниями сознания, локализовать себя в пространстве и времени, описать себя посредством личной истории. Но при попытке редуцировать «Я» до «сухого остатка» нам не удается обнаружить ничего, на что можно было бы с уверенностью опереться; ничего, кроме упрямой очевидности «Я есмь».
Чтобы в дальнейшем избежать терминологической путаницы, нам будет необходимо ввести различение между тем, что мы привыкли называть собой, имеющим ряд характеристик и качеств (самоощущение, тело, имя, характер и т. п.), и тем, что неподвластно никаким изменениям (по той причине, что там попросту нечему меняться):
2.2.1. Эмпирическое (локальное) «я» возникает в результате отождествления чистого «Я» с определенными содержаниями и структурами сознания, с представлением человека о самом себе, совокупностью всего, что мы привыкли называть собой. Не отличая себя от психических структур, «Я» в этом случае принимает их команды за свои, даже не задаваясь вопросом о том, что является причиной и источником их возникновения. В большинстве случаев его действия не произвольны: они являются заданными реакциями на приходящие стимулы. Можно сказать, что в эмпирическом «я» субъектность «смешана» с содержаниями сознания или даже поглощена ими.
Выражаясь метафорически, такое «я» возникает в результате погружения изначально бескачественного и пустотного «Я» в плотные слои сознания.
Характер существования «воплотившегося» таким образом «я» описывается страдательным залогом: «я претерпеваю», «со мной случилось».
«Я» отождествляется не только со структурами, но и со специфической перцептивной конфигурацией, возникающей в результате хронической фиксации внимания на самом себе. Это – определенный «рисунок» соматических ощущений, зачастую локализованный в районе головы; некий образ себя, формируемый так называемой «вторичной визуальностью»; голос, которым мы думаем (или, точнее, который «думает нас»). Поскольку здесь эмпирическое «я» задано как самовосприятие, зафиксированное рефлексивным, направленным на самого себя вниманием, оно не столько осознается, сколько ощущается, проявляясь как локальное образование, имеющее форму и качества.
Будучи очищенным от психических и психологических компонент, такое «я» может быть названо локальным, точечным «я». Оно также, как и эмпирическое, отождествлено с содержаниями; только теперь это не психические структуры, а некоторая перцептивная данность. Понятие «эмпирическое я» шире, чем «локальное я», и включает его в себя. В дальнейшем мы будем применять тот или иной термин для обозначения «я», в зависимости от требований контекста.
Итак, эмпирическое «я» всегда локализовано и, в отличие от чистого «Я», существует по лишь отношению к тому, что им объективируется (пара «субъект–объект»). Из этой позиции эмпирическое «я» стремится присвоить себе все, что попадает в его «поле зрения»: вещи, смыслы, активность… Это как бы дает ему возможность утвердить свою «реальность», пусть и за счет противопоставления себя объектам: «я делаю это», «я присваиваю то», «я наблюдаю за тем».
В дальнейшем понятие «субъект» будет использоваться нами как синоним эмпирического «я» в тех случаях, когда нам будет необходимо подчеркнуть его активный, познавательный и бытийный статус (которым оно, несмотря на свою эмпиричность и локальность, обладает) в противоположность «я-объекту», где оно выступает лишь как социальный, телесный или психический образ.
2.2.2. Чистое «Я»25 (в дальнейшем – «Я» или Субъект) достижимо посредством предельной редукции, применяемой к эмпирическому «я». Такое «Я» не может быть сведено ни к каким качествам, а потому – апофатично, «бесплотно» и не локально. Оно тождественно себе и незримо присутствует во всех явлениях психической жизни, свидетельствуя о них. Рефлексивные акты сознания всегда чьи-то и именно «Я» является их «бенефициаром». Каждый акт восприятия есть не просто «восприятие, повисшее в воздухе», но чье-то восприятие. «Я» как бы отражается в cogito и потому может быть обнаружено и познано по таким «отблескам».
Если локальное «я» создается и фиксируется вниманием, направленным на себя же, и потому есть результат объективации, то Субъект не может быть схвачен вниманием: он всегда ускользает от самого себя. И если эмпирическое «я», это то, как мы себя воспринимаем или ощущаем, то чистое «Я» – это тот, кто воспринимает.
В отличие от эмпирического «я», которое обусловлено содержаниями и процессами сознания, «Я» – как было замечено выше – само является условием сознания, устанавливающим «диктат бытия».
Вот что по поводу «диктата бытия» пишет А.В. Смирнов со ссылкой на Ибн Сину:
«Ибн Сина настаивает на том, что хадс не может бездействовать: если Я открыто прямому схватыванию, оно не может не схватываться. Иначе говоря, мы не можем волевым усилием отказаться от схватывания Я: его открытость нам не зависит от нас». «И спящий, и пьяный человек воспринимает свое Я в момент сна или опьянения, однако потом не помнит об этом; теряется память, но не восприятие Я, которое в принципе не может прерваться (Ибн Сина)»
20
Некоторые указания на такое разделение мы обнаруживаем и в языке, когда говорим: «Мое сознание» или «Я потерял сознание». Тем самым мы как бы по умолчанию отличаем себя от сознания, указываем на то, что «Я» обладает сознанием и что потеря сознания не приводит к потере «Я». Действительно, после того, как сознание к нам возвращается, оно возвращается именно к нам, а не к кому-то другому.
21
Этому определению Гуссерля вторят Е.М. Иванов и С.А. Левицкий: «Временной поток переживаний требует некой “внешней скрепы” для того, чтобы обеспечивалось единство и преемственность опыта – и такого рода скрепой, по сути, и является “трансцендентное Я”. “Я” следует понимать как фактор, создающий единство нашей душевной жизни» («Человек и Абсолют. Философское введение в религиозную антропологию» [16]). «Это единство и означает приуроченность всех психических функций к единому “Я”. “Я” несводимо к психическим функциям, ибо оно есть по крайней мере носитель этих функций» («Трагедия свободы» [2]).
22
Под cogito здесь следует понимать не только мысль, но и любой рефлексивный акт сознания: чувства, воображение, опытное познание, оценивание, смысловое переживание и т. п. Важным условием cogito является его осознанность: субъект «отдает себе отчет» в его наличии.
23
Данный опыт вполне доступен в глубоких стадиях «йога-нидры». В какой-то момент этой практики может возникнуть необычное и довольно парадоксальное переживание, описываемое как: «сознание спит, я бодрствую». Такое состояние может быть сравнимо с глубоким сном без сновидений с той лишь разницей, что в нем присутствует «нечто», не относящееся ни к какой форме сновидений или содержаний – некий первичный акт сознания, являющийся чистой и еще никак не воплощенной активностью, и указывающий на «Я». Как только это переживание начинает исчезать, вместе с ним начинает исчезать и само сознание, которое переходит в «мерцающий» режим, а затем и вовсе «выключается», проваливаясь в классический сон без сновидений.
24
Чистое «Я» всегда выступает в роли Субъекта, если речь идет о его феноменологической, а не трансцендентальной стороне – то есть тогда, когда «Я» активно (когда оно актуально есть).
25
Именно о нем шла речь выше в разделе «Два аспекта чистого “Я”».