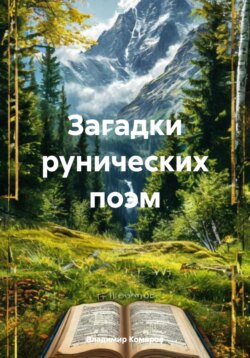Читать книгу Загадки рунических поэм - - Страница 17
Часть II. Чтение стишков
Заклинание
Оглавление(Убедительная просьба к филологу, в руки которого случайно попала эта книга: пропустите при чтении этот раздел, ибо при его чтении Вами лицо автора будет покрываться краской стыда.) Вот теперь, застраховавшись от критического взгляда профессионала, можно раскрепощенно окунуться в игру словами.
В помощь прочтения рунических поэм в качестве дополнительного источника информации привлекаются материалы «Старшей Эдды». Особое значение придаётся фрагментам песен с явно выраженной направленностью назидательного характера, что, как можно ожидать, сближает их с предполагаемым назначением и содержанием строф рунических поэм как посланий будущим поколениям, содержащим житейскую мудрость, выстраданную предшествующими поколениями. А среди этих материалов наибольший интерес представляют такие, которые и по строению строф, и даже по названию относятся к явным методическим указаниям. К таким материалам относятся советы Высокого Лоддфафниру [РчВс], советы Сигрдривы [РчСг], ну, и прежде всего, – заклинания Высокого [РчВс].
В среде рунологов сложилось мнение о возможности установления соответствия заклинаний Высокого строфам рунических поэм. Сами эддические тексты не устанавливают соответствия заклинаний Высокого рунам из состава Старшего ФУТАРКа. Нумерацию рун в Старшем ФУТАРКе и нумерацию заклинаний Высокого в [РчВс] нельзя считать основанием для установления соответствия между членами рядов, на основании чего эти две системы нумерации полагаются независимыми. Тем более, что заклинаний Высокого всего восемнадцать, в то время как количество рун в Старшем ФУТАРКе – двадцать четыре. К тому же, относительно восемнадцатого заклинания Высокий сообщил только его номер. И осталось их семнадцать, что больше численности рун Младшего ФУТАРКа, но меньше количества рун Старшего ФУТАРКа.
Кроме того, возникает вопрос: как совместить предполагаемый сугубо прагматичный смысл строф рунических поэм с непонятной сущностью заклинания? – Ответ очевиден, – надо попытаться понять, что такое заклинание вообще и заклинание Высокого в контексте [РчВс], в частности. Предлагается, не прибегая к магии, мистике и эзотеризму, руководствоваться здравым смыслом в анализе родственных слов.
Ниже анализируются слова русского языка с единой основой. В этих словах могут меняться отдельные их части, – приставки, суффиксы, гласные, – но в них незыблема их основа – звукосочетание «кл» (к слову, эти две буквы в том же порядке занимают смежные места в русском алфавите). Произнесение этого звукосочетания напоминает клёкот птиц-падальщиков, собравшихся на пир вокруг мертвечины или предчувствующих её. На картинах принято изображать смерть в виде человеческого скелета, опирающегося на косу (видимо, отсюда появилось выражение «смерть косит людей», хотя, скорее всего, наоборот, сначала появилось выражение, рождённое массовым мором людей в результате эпидемии какой-либо болезни, а затем уже это выражение отразилось в живописной форме). Но в сказках, отражающих более раннее восприятие смерти, смерть представлялась костлявой старухой не с косой, а с посохом–клюкой в качестве магического профессионального инструмента. В развитие темы смерти и нагнетаемой жути из русских сказок вспоминается какая-то мрачно-мистическая сцена, в которой богатырь поджидает нечисть у реки у Смородины под ракитовым кустом, под калиновым мостом. Остались только детские ощущения: с одной стороны, жуткий безотчётный страх, наводимый описанием сцены, а с другой стороны, недоумение, – как ужас сцены сообразуется со знакомыми с малолетства и вовсе не страшными, а наоборот, очень даже вкусными ягодами с кустика смородины (неважно, красной или чёрной) и калины. И только совсем недавно выяснилось, что Смородина – это действительно река, а не смородиновый куст, и эта река разделяет мир живых и мир мёртвых. А калинов мост сделан не из калины, да и не важно из чего, но важно, что он как раз соединяет мир живых и мир мёртвых. По этому мосту умерший переходит из одного мира в другой. Эта картина, видимо, должна символизировать положение богатыря: он стоит на границе миров, в шаге от смерти. Причём, эта схема присутствует в каждой известной автору «Книге мёртвых» (тибетской и других). В связи с этим также вспоминается к/ф про Индиану Джонса и обращение в нём жреца к тёмному божеству смерти, требующему человеческие жертвы: «Калина, Малина» (и здесь только созвучие с названиями ягодных кустарников). Пользуясь тем, что филологи не читают этот раздел, можно заметить, что в случае «проглатывания» гласной «а» «калинов мост» превращается в «клинов мост» (так недалеко и до «заклинания»). Отсюда по индукции просматривается смысловая ассоциация со звукосочетанием «кл»: пограничье между миром живых и потусторонним миром, переход между мирами, предсмертие, смерть. Смородина, калина и малина остаются за скобками. Далее будет рассматриваться только звукосочетание «кл», предположительно ведущее свою родословную от «калины». Начать разбор предлагается со слова, которое стоит в заглавии раздела.
Заклятье – Формулировка тактико-технического задания (ТТЗ) на трансформацию действительности. Это ещё не проявленное, но только задуманное и специфицированное изменение действительности. Фактическое изменение действительности в соответствии с данным ТТЗ возможно только Высшими Силами, в ведении которых находится всё сущее. Заклятье формулируется на языке общения с этими Высшими Силами и включает в себя установление контакта с этими Силами с целью инициации проекта трансформации и производства его проявления в действительности.
Проклятье – заклятье, имеющее целью нанесение вреда определённому субъекту.
Класть – смысл этого глагола раскрывается, прежде всего, в контексте выражения Скирнира, – «заклятье кладу», – в [ПзСк]:
34 «…Запрет налагаю,
Заклятье кладу
На девы утехи,
На девичьи услады».
Из контекста этого выражения ясно, что в глаголе «класть» заключён акт творчества, сотворения новой действительности, которая отвечает условиям и требованиям заклятья: после того, как Скирнир действительно «поклал» бы (в смысле, наложил) такое заклятье, бедная Герда реально лишилась всех утех и услад девы. Следует отметить, что здесь нет и намёка на изменение положения объекта в пространстве, то есть того, что общепринято приписывать глаголу «класть» в обычной практике употребления этого слова. Изменение положения объекта заклятья в пространстве может быть прямым, но не специфицированным в ТТЗ, не заданным в качестве конечной цели, следствием творения заклятья, построения проявления заклятья в новой реальности. Отсюда и смыслы слов, производных от глагола «класть».
Кладь – результат акта творения. Например, есть такие выражения – «кирпичная кладка», «класть кирпич». Только непосвящённый в строительное дело усмотрит в выражении «класть кирпич» простое изменение пространственного положения кирпича в направлении снизу-вверх, а в выражении «кирпичная кладка» – в лучшем случае, кирпичи, размещённые по правилу «один на другой». На самом деле, при приёме на работу на стройку требовалось среди прочих, как сейчас принято выражаться, скиллов иметь ещё и умение «класть кирпич». Строить архитектурное сооружение на основе кирпича и цементирующего кладку раствора – это творческий процесс. Хорошие «каменщики» ценились высоко (как сейчас, – сварщики). Кладь, кладка – это творение. Тоже относится и к слову «поклажа». Поклажа – это совокупность предметов и вещей, размещённых в объёме транспортного средства в соответствии с условиями перевозки, то есть представляющая собой систему предметов, вещей и особенностей средства перевозки, взаимоувязанных и закреплённых таким образом, чтобы избежать их поломки и потери в ходе перевозки. Даже термин, известный из лексикона авиаперевозок, – «ручная кладь», – это не просто сумка, помещаемая на верхнюю полку салона самолёта перед взлётом. Нет, хотя на регистрации эта сумка и проходит под названием «ручная кладь», речь идёт о сумке в связи со специальным помещением над пассажирскими креслами для хранения этой сумки во время полёта, исключающим в силу своих конструкционных особенностей выпадение сумки во время возможных намеренных и не преднамеренных манёвров самолёта. Такая система сумки и камеры хранения для неё является творением, пусть и не Высших Сил, но инженерной мысли. В этом же ряду стоит и такое былинное явление, как «меч-кладенец». Конечно, здесь достаточно прозрачно усматривается смысл, как результат действия меча: косить врагов снопами и укладывать штабелями. В русских былинах характеристикой богатыря, оказавшегося в гуще врагов, служило такое выражение: «махнёт (оружием) – будет улочка, отмахнётся, – переулочек». Но, такую восхитительную картину массового убийства творит не простой меч, пусть и фигурной заточки. Это заговорённый меч, то есть меч, на который было покладено, положено (вот здесь проявляется дуализм «класть-ложить») заклятье творить масштабные разрушения, нести массовую смерть. И вот уже в следствие смерти, в следствие убийства человека, его бездыханное тело оказывается покладенным, уложенным на землю (как, в общем-то, уже бесполезное и не востребованное следствие убийства; ведь если целью было убийство, то не важно, – остаётся ли тело после этого стоять или падает). Можно утверждать, что современное значение слова «класть» отражает лишь это вторичное следствие.
Уже это, – корень «кл» и творчество, распространяющееся на трансцендентную трансформацию действительности, – даёт толчок к ассоциации с богиней Кали. Здесь даётся сухая компилятивная объективка на богиню Кали.
Кали – Кали есть восприятие молнии правды, отрицающая все иллюзии. Она воплощает в себе творение, сохранение и уничтожение, вызывает одновременно любовь и ужас. Одним из многих имён Кали является Калика, что в переводе с санскрита означает «временная, продолжающаяся в течение времени». Кали также является силой, разрушающей зло во всех его проявлениях, которыми являются эгоистичные тенденции. Эгоизм проявляется через ложное самоотождествление с той временной личностью, в которую воплощается Дух на одно из многочисленных рождений в материальном мире. Когда человек ставит себя на пьедестал жизни, взирая на остальных свысока, то это проявление сокрушает Кали, показывая, как преходящие ценности, столь важные для Эго, разрушает Время. Демоны, которых убивает Кали, символизируют последствия ложного самоотождествления, привязанностей, иллюзорного восприятия и таких проявлений ложного Эго, как тщеславие, гордыня, жадность, корысть, зависть и т. п. Далее приводится цитата из https://yoga-shambhu.ru/biblio-texts/kali-3.php: Богиня Кали в тантризме: «То, что шактистские культы тантрического типа некогда были распространены повсеместно на нашей планете, мало у кого вызывает сомнение. Это подтверждается и свидетельствами священных текстов различных религий, и научными данными. Целый ряд любопытных сведений говорит о том, что культ Кали имел в древности свои прямые аналоги в самых разных уголках мира. У древних греков встречалось женское имя Калли и даже существовал город Каллиполис. Древние финны до введения христианства почитали Черную Богиню по имени Кальма (почти что Кали Ма!). У семитских племен, живших на Синае, жрицы богини луны назывались калу. Древние кельты почитали Богиню Келе, жрицы которой носили титул келлес, от которого, как принято считать, происходит современное английское имя Келли. И в этом есть нечто большее, чем просто сходство в звучании. Кали – не “одно из божеств индуистско-тантрического пантеона”, а Великая Матерь всех существ, почитаемая (или некогда почитавшаяся) под разными именами и в разных формах практически повсюду».
В Интернет можно отыскать мнение, будто бы Кали-Ма воплощена в трёх памятниках в Тбилиси и в памятнике Матери Родине на Мамаевом Кургане в Волгограде. Во-всяком случае, как свидетельствует приведённая ссылка, Кали-Ма носит универсальный, интернациональный характер. Что позволяет распространить её влияние и на мифологию древних германцев, тем более что они считают себя ариями, вышедшими из Индостана.
Богине смерти Кали, изображавшейся в устрашающем облике, поклонялись азиатские племена туги. В честь этой кровожадной богини проводились ритуалы с умерщвлением людей. Богине посвящались заступы, которыми рылись могилы для убитых жертв. Во время освящения заступа все стояли так, чтобы на него не падала никакая тень. Освящающий страшный инструмент жрец, совершая ритуальное четырехкратное омовение водой и семикратное очищение огнем, сидел обращенный лицом на запад – сторону, считающуюся страной смерти. Жрец должен был с одного удара расколоть кокосовый орех, что означало свершившееся освящение заступа (для этого он должен был быть здоровенным мужиком). После этого орудие клалось на землю, а все присутствующие при ритуале поклонялись ему, повернувшись головой на запад. После посвящения заступа богине смерти жертва убивалась ударом заступа, которым потом и закапывалась в только что вырытую могилу, ориентированную на запад. Весь обряд был подчинен задабриванию духов смерти во главе с Кали, которые обитали, по верованиям тугов, на западе.
К представленному здесь образу Кали тесно примыкает и такое явление, как
Калика перехожий – В общественном сознании утвердилось такое толкование слова «калика»: «Слово калики происходит от названия обуви калиги (ср.-греч. ϰαλίϰια от лат. (caligae) – страннических сапог с низким голенищем». Ка́ли́ки перехо́жие – старинное название странников, поющих духовные стихи и былины. Считалось, что совершив странствование к святым местам, неимущие кали́ки пользовались особым уважением и нередко оставались уже на всю жизнь перехожими просителями милостыни, которой добывали себе пропитание. Таким путём слово «кали́ка» или «калека» получило значение нищего странника, а так как Христовым именем питались по необходимости и люди с физическими недостатками, это слово получило своё современное значение – «искалеченный человек, инвалид». Есть и альтернативное мнение. Источники сообщают, что в русском эпосе есть и былинные герои-калики: Калика-богатырь, побивающий «силушку», которой «сметы нет»; «сильный могучий Иванища», «калика перехожая переброжая», с которым не решается вступить в единоборство даже Илья Муромец. Русские кали́ки-странники, паломники, упоминаются в «Хождении игумена Даниила» и в записках Стефана Новгородца. Их знают и былины, в которых упоминаются целые братчины калик, снаряжающиеся из Волынца-Галича, или из пустыни Ефимьевы, из монастыря Боголюбова в путь к славному городу Иерусалиму. Былинные кали́ки – дородные добрые молодцы, силачи, иногда красавцы, одетые в соболиные шубы или гуни сорочинские, в лапотки семи шелков, с вплетённым в носке камешком самоцветным; костюм их дополняют сумки из рыжего бархата, клюки, иногда из дорогого рыбья зуба (моржовых клыков), и шляпы земли греческой. Так кто же они, калики, – доходяги или богатыри, которых боялся даже Илья Муромец?
Аналогичный взгляд на калик преподносит и А. Пыжиков в книге «Происхождение русских былин» [Пжк] : «Что такое наши калики? Неужели в самом деле надо признавать их точно такими же калеками, какие с незапамятных времён ходят по святым местам русским и поют духовные песни? Нет, это не простые увечные, изуродованные и безобразные слепые нищие, которых ремесло выпрашивать милостыни. Они все … совсем напротив, не что иное, как могучие крепкие, но переодетые богатыри». И там же: «они просят себе милостыни таким богатырским голосом, что от него … в поле дрогнула матушка сыра земля и богатыри с коней попадали, … с теремов верхи повалилися, с горниц охлопья попадали, в погребах питья всколебались… Все эти черты указывают нам ясно на то, что калики … имеют мало общего с простыми каликами, с каликами-странниками, какие в нашей земле всегда были и есть по сю пору. Это калики переряженные, калики-богатыри». Можно добавить, что по утверждению В. Стасова [Пжк] этими каликами-богатырями, как и их прототипами – восточными странниками, двигало исполнение священной миссии паломничества к святым местам. Это созвучно священной миссии восточных калик-жрецов Кали – обращение в святую веру богини Кали.
Что-то подсказывает, что «калика-перехожая» – это (изначально) последователь богини Кали (Калики), жрец богини Кали, а впоследствии и миссионер («перехожий», в смысле «путешествующий»), несущий в массы принципы богини Калики (Кали), используя в качестве аргумента заступ. Учитывая специфичность такой миссии, в жрецы, надо полагать, принимались дородные добрые молодцы, силачи, иногда красавцы. Жрец-калика учил тому, что главное зло – это ложь, а необучаемых сразу предавал земле. Посредством заступа.
Видимо, эти калики, расходясь как апостолы веры по всей земле, в своё время достигли и древней Руси. Со временем истоки подзабылись, а религия сменилась, – вместо любви к Кали калики стали пропагандировать любовь к Христу. Но атрибутика, в основном, сохранилась. Всё также в калики отбирались дородные добрые молодцы, силачи, иногда красавцы. И вот калика, теперь уже в образе Воина Христова, здоровенного добра молодца, нёс учение Христа и проповедовал принципы истины, правды и борьбу со злом в лице кривды, лукавства, лжи, обмана. Сохранился, правда в видоизменённом виде, и второй атрибут калики перехожего.
Клюка – Существуют три значения, приписываемые этому слову. На основании контекста употребления в древних текстах слову «клюкъ» можно с уверенностью приписать значение «хитрость». В подтверждение этого приводятся фрагменты древних текстов:
«1078: Бѣ же Изяславъ мужъ взором красенъ, тѣломъ великомь, незлобивъ нравомь, кривды ненавидя, любя правду, клюкъ же немь не бѣ, ни льсти, но простъ умомъ. Пов. врем. лет (Ипат. лет.). Се слышавъ Андрѣи о словеси семь, дьрзновение възя, рече к нему: Ими ми вѣру яко створю, елико ми еси реклъ, толико научи мя клюкамъ его. И рече к нему уноша: Не вѣси ли клюкъ его? Ж. Андр. Юр.(Срезн.), 160 (XIII в. XII в.).
И сия рекъ (Нифонт.), прекрестився, глаголя къ диаволу: Заклинаю тя … да идеши отселѣ во дно адово, азъ бо твоихъ клюкъ не боюся. Ж. Нифонта, 405 (XVII – XVIII вв. нач. XIII в.). Того ради учитъ ны рекий: Не послушай жены; лучше бо есть злоба мужъска, неже лстивыя жены доброта; глаголетъ бо клюками, а не истину. Слово о добр. женах. пам. др. церк. учит. лит. III, 121 (XIV в.). Но оному того не вѣдущу моего неумѣниа, надѣахся своими клюками переклюкати его. ВМЧ, апр. 22-30, 1047 (XVI в.)».
В древних текстах встречается контекст употребления и в значении «колени»:
«Тъи (Всеслав) клюками подпръ ся о кони (окони?) и скочи къ граду Кыеву, и дотче ся стружiемъ злата стола Кiевскаго».
Здесь Всеславу, учитывая предстоящую ему быструю и долгую скачку, предлагается охватить ближайшую к холке часть спины коня ногами, согнутыми в коленях под острым углом, что обеспечит устойчивость посадки при скачке по пересечённой местности (так называемая, калмыцкая посадка).
И, наконец, третье значение, – палка с загнутым под острым углом верхним концом, использующаяся для опоры при ходьбе. Есть и исторический контекст, где слово «клюка» употребляется именно в этом значении:
«И старецъ пошелъ промеж нищих тиснитца, и нищие старцу пути не дадут, и почели старца клюками бить. Бова, 33 (XVII в.). Роспись кужгорским всяким снастем рудокопнаго горного дѣла … клюка железная кузнишная, 2 лопатки. Собр. Гамеля, ст. 1, 3 (1644-1646 гг.).
Подходят уже они (калики) под Киев град … встречу им-та Владимир князь, ездит он за охотою … завидели ево калики тут перехожие, скановилися (так!) во единый круг, клюки пасохи в землю потыкали, аи сумочки исповесили.
Из улици идет стар человек Он клюкою подпирается, Золотми ключами побрякивает. Велик. Нар. Песни. II, 256».
У В. Стасова говорится [Пжк]: «Подробности костюма и внешней обстановки наших калик равномерно указывают на восточное происхождение рассказа о них. Обратим внимание на четыре пункта: 1) одежду, 2) палку, 3) сумку, и 4) книгу наших калик». Мельком заметив, что «костюм калик состоял не только из хороших, но и из роскошных кафтанов, шуб, шляп и т.д.», следует обратить внимание на то, что атрибутом калики была «всегдашняя принадлежность наших калик – палка в руке: это не только предмет, вообще необходимый для странников и стариков, но и предмет, предписанный брахманскими и буддийскими правилами веры и старым, и молодым людям». И далее: «В законах ману читаем:… Палка брахмана должна достигать вышины его волос, у кшатрия – вышины его лба у вансия – вышины его носа».
Загнутый вниз под острым углом верхний конец палки, можно сказать, вызывающе загнут вниз. – Как будто только для того, чтобы возник вопрос – зачем? – Какой прок от этого, загнутого вниз участка палки? – А ведь именно такой, спускающийся под острым углом, участок палки-посоха отчётливо виден на картинах, изображающих и колдунью на кладбище, и святого старца, широким шагом шагающего по дороге. – Имел бы он форму классического крючка, то есть форму знака доллара, – на него при остановке в пути можно было бы повесить дорожную суму (чтобы не класть на землю). – Всё польза! А так, подобная конструкция посоха имеет прагматическое значение лишь в одном случае, – если в нём увидеть заступ того, первичного, калики перехожего, выбивающего из людей хитрость и ложь заступом по голове. Просто, со временем практическое назначение заступа утерялось, и вместо того, чтобы носить достаточно тяжёлый железный заступ (который вызывал только недоумённые вопросы и смех паствы), стали пользоваться специально подобранной палкой, повторяющей заступ в проекции. Таким образом, и второй (после прекрасных физических данных) атрибут калики перехожего дошёл до наших времён. Клюка – это символ заступа.
Изложенное здесь – вынужденное отступление от основной темы. Коли работаешь с таким явлением, как заклинание, надо хотя бы на уровне «со словарём» владеть сакральным языком, представителем которого является слово «заклинание», ибо работа с заклинаниями – это хождение по краю могилы. Представленный словарь можно было бы дополнить такими словами, как «Коляда», «клясть», «клятва», «клад», «кладбище», «клевета», «клобук», «клич», «кликать», «ключ», «поклон», «клуша», «клоака» и др., но это можно отложить на потом. Конечно, все эти сакральные тайны с чертовщиной не могут впрямую быть использованы в работе с руническими поэмами. Предполагается, что вся сакрализация выветрилась из материалов «Старшей Эдды» и, в частности, из заклинаний Высокого уже к моменту фиксации текстов «Старшей Эдды». Поэтому, в заклинаниях Высокого будет искаться исключительно прагматичный, созвучный строфам рунических поэм, смысл. Высокий так расценивал свои заклинания:
162 «… хороши они,
Впрок бы принять их,
На пользу усвоить».
Из этого видно, что сам Один указывал не на магически-мистическую, но на практическую пользу, прок от следования советам, обычаям, традициям, обрядам, ритуалам, закодированным в заклинаниях Высокого. Из опыта работы с заклинаниями Высокого можно на интуитивном уровне заметить, что отнесение заклинания к той или иной руне можно сделать уже на основании первых двух (не считая полустроки нумерации) полустрок строфы заклинания. В этих полустроках содержатся ключевые слова смысла руны. Остальная часть строфы заклинания носит характер камуфляжа, чтобы в привнесённом постороннем смысле потерялся смысл первых двух полустрок, ну, и чтобы как-то завершить тему, поднятую в первых двух полустроках. Сказанное можно продемонстрировать на примере прочтения одиннадцатого заклинания Высокого из [РчВс]:
156 «Одиннадцатым
Друзей оберечь
В битве берусь я,
В щит я пою –
Побеждают они,
В боях невредимы,
Из битв невредимы
Прибудут с победой».
Сразу следует отмести флёр мистики и магии, который напустил Один в этой строфе. Ясно одно, – Высокий реально не может оберечь своих друзей от поражения и гибели и даже просто от тяжёлых ранений в битве. Тогда о чём эта строфа? – А она о практическом совете, о настоятельном совете Высокого. Он даже не советует, – он заклинает, в смысле настоятельно просит и даже умоляет своих друзей. Так, о чём же он их умоляет?
После всех неудач рунологов и филологов в попытках прочтения выражения «в щит я пою» справедливо предположить, что оно не расшифровывается именно потому, что от него ожидают слишком многого, что оно, в силу своей притягательной таинственности, стянуло на себя всё одеяло внимания исследователей, и в результате этого было незаслуженно выставлено на центральный план заклинания. Действительно, тема щита была сакрализована в связи с такими непонятыми, а потому, как представлялось, обладающими глубоким смыслом, явлениями, как пение в щит и кусание щита. Так, раскрывая смысл руны Соуло в своей книге [Нмн] Г.ф. Неменьи говорит: «Победа над льдами – одно из важнейших значений руны, недаром её называют руной победы. Поэтому, Один поёт эту руну в щит, чтобы его воины уцелели (курсив автора) в бою и победили. У германцев было принято распевать заклинания в щит, усиливавший звук». Как видно, тут тебе и непричинение вреда воинам («невредимы прибудут», то есть вернутся), или, иначе, – сохранение целостности тел воинов в бою, тут тебе и победа, тут тебе и использование щита в качестве мегафона. Там же Г.ф. Неменьи сообщает: «Большим позором считалась потеря щита, потому что тем самым человек лишался своего собственного солнца, своей солнечной богини. Так в «Германии» мы читаем: «Величайший позор – потерять щит; обесчестившему себя таким поступком не дозволяется ни присутствовать при жертвоприношении, ни посещать собраний, и много таких, которые, пережив войну, петлёй полагали конец своему бесславию». Выходит, для германца потерять щит – всё равно, что для ковбоя потерять шляпу. На страницах книг, посвящённых викингам, можно встретить заверения, что норманны перед битвой кусали свой щит, разъяряя себя. С другой стороны, приведение своего сознания в изменённое состояние, как утверждали те же книги, было свойственно только берсеркам. А берсерки не пользовались щитами, – они пользовались мухоморами. А вот, глава клана инеистых великанов, собираясь на последнюю битву, видимо, желая сохранить целостность своего тела в Рагнарёк, прихватил щит [ПрВл]:
50 «Хрюм едет с востока,
Щитом заслоняясь…».
Кстати, а защищается он щитом (чтобы преждевременно не растаять) от жара огненного великана Сурта, тоже прибывающего на битву в Рагнарёк.
Итак, в представленной попытке прочтения заклинания утверждается, что основная направленность заклинания заключена в первых двух полустроках, точнее – в первой полустроке, рассматриваемой в контексте второй:
«Друзей оберечь
В битве берусь я».
Контекст же битвы предлагается считать не более чем традиционным для германцев фоном, привлечённом для раскрытия темы сбережения тела в качестве примера предметной области. Оберечь – вот основная идея и направленность заклинания. Оберечь в битве в предельном переходе означает оберечь тела друзей от доступа со стороны вооружённых врагов. Закрыть доступ к телу. Исключить причинение вреда телу и нарушение его целостности. Любыми средствами. А триумф, победа в битве – это уже лирика. Главное, что они вернутся к жизни невредимыми, в целости и сохранности. Стараясь сохранить целостность тела и закрыть доступ к нему, можно и петь в щит, и кусать щит, можно хоть чего, но главное всё же, – механически предотвратить доступ к телу. Высокий говорит о мерах по механическому предотвращению доступа к телу.
Оберечь, или сберечь, означает сохранить целостность в неблагоприятных условиях или даже во враждебной среде. В итоге, сберечь означает вывести объект сбережения из этой передряги полностью невредимым. В идеале, объекта сбережения не должно коснуться ни одно из возможных несанкционированных воздействий.
После всех неудач рунологов и филологов в попытках прочтения выражения «в щит я пою» справедливо предположить, что оно не расшифровывается именно потому, что от него ожидают слишком многого, что оно, в силу своей притягательной таинственности, стянуло на себя всё внимание исследователей, и в результате этого было незаслуженно выставлено на центральный план заклинания. Действительно, тема щита была сакрализована в связи с такими непонятыми, а потому, как представлялось, обладающими глубоким смыслом, явлениями, как пение в щит и кусание щита. Так, Г.ф. Неменьи сообщает: «Большим позором считалась потеря щита, потому что тем самым человек лишался своего собственного солнца, своей солнечной богини. Так в «Германии» мы читаем: «Величайший позор – потерять щит; обесчестившему себя таким поступком не дозволяется ни присутствовать при жертвоприношении, ни посещать собраний, и много таких, которые, пережив войну, петлёй полагали конец своему бесславию». Выходит, для германца потерять щит– всё равно, что для ковбоя потерять шляпу. На страницах книг, посвящённых викингам, можно встретить заверения, что норманны перед битвой кусали свой щит, разъяряя себя. С другой стороны, приведение своего сознания в изменённое состояние, как утверждали те же книги, было свойственно только берсеркам. А берсерки вообще не пользовались щитами, – они пользовались мухоморами. Все существующие трактовки выражения «в щит я пою» неубедительны, носят характер откровений, и в основе своей опираются на магию. Есть только одна возможность приблизиться к пониманию смысла этого выражения, – проанализировать контекст его употребления. Ибо в отрыве от левого и правого контекста вхождения этого выражения в строфу заклинания допустимы любые фантазии на тему песен в щит. Однако, наличие этого контекста существенно ограничивает буйство фантазии. Щит в контексте сбережения объекта бережения при требовании выхода объекта бережения из передряги невредимым, то есть, неприкосновенным, может означать только одно, – вполне материальный барьер, препятствующий любому механическому воздействию на объект бережения. Щит – это средство предотвращения доступа к телу. Итак, в центре смысла заклинания стоит объект, который необходимо сберечь, оградить от внешнего мира посредством создания материальных преград. А это требует хороших доспехов на теле воина. Высокий умоляет своих воинов не забывать одевать боевые доспехи перед сражением. Как говорится: «по утрам, надев часы, не забудьте про трусы».
Весь проведённый экскурс в мистическое уподоблен «сеансу чёрной магии с последующим её разоблачением». Вот, и в колдовских заклинаниях Высокого предлагается увидеть мудрость житейскую. Для заклинаний Высокого характерна их ситуативность, они, как правило предполагают левый контекст рекомендуемого действия: «коль свяжут мне члены…» (четвёртое), «коль пустит стрелу враг…» (пятое), «если ладья борется с бурей…» (девятое), «если замечу, что ведьмы взлетели» (десятое) и т.д. И для этого контекста заклинание предлагает действие, которое априори считается проверенным временем и овеянным мудростью житейской.
Если отвлечься от мистическо-метафизического контекста, закрепившегося за словом «заклинание», то это слово предстаёт в значении часто употребляемой в быту формы просьбы: «Заклинаю, молю, очень прошу тебя сделать то-то и то-то». И это «то-то и то-то» представляет собой действие, которое по мнению просящего наиболее адекватно контексту просьбы, то, что продиктовано самой ситуацией и опытом просящего. В случае, когда такое заклинание, такая просьба, исходит от Высокого, априори предполагается, что на действие распространяется мудрость самого Высокого. Заклинание Высокого – это поведенческая форма мудрости житейской. Той самой мудрости житейской, которая заключена в строфе рунической поэмы. Поэтому, заклинание Высокого, сформулированное с использованием специфических языковых форм и средств, позволяет увидеть мудрость житейскую в ином, отличном от представления строфы рунической поэмы, свете, что представляет дополнительную информацию о мудрости житейской. Такую форму выражения мудрости житейской, как заклинание Высокого, можно считать равноправной и равносильной форме выражения мудрости житейской в строфе рунической поэмы.
Заклинание Высокого – это завет. Это интеллектуальное завещание умерших поколений новым поколениям людей в форме призыва к неукоснительному следованию накопленной мудрости житейской. Иначе явятся здоровенные добры молодцы с заступами-клюками и обратят в истинную веру неверующих в глубину и действенность мудрости житейской посредством удара заступом по голове.