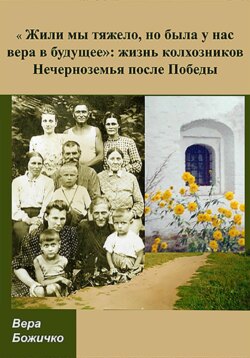Читать книгу «Жили мы тяжело, но была у нас вера в будущее»: жизнь колхозников Нечерноземья после Победы - - Страница 6
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Государство и колхозы
ОглавлениеКак уже упоминалось, деятельность колхозов жёстко регламентировалась сверху. На каждую хозяйственную операцию поступали подробные директивы из района и области. Это в значительной мере сковывало деятельность на местах. Чрезмерная централизация не могла учесть особенностей каждого хозяйства, порождала нерешительность и апатию у председателей, приводила к различным упущениям и нестыковкам, что, в конечном итоге, ухудшало результаты работы.
Агитационный плакат 1946 г. с призывом к севу в колхозе
Процесс распределения произведенной продукции также не подлежал ведению колхоза, он определялся
Уставом сельхозартели, который устанавливал следующую последовательность:
1) Сдача продукции государству в соответствии с планом госпоставок, платежи банку по взятым ссудам, расчет с МТС, уплата налогов.
2) Создание колхозных семенных и фуражных фондов для обеспечения производства.
3) Создание социальных колхозных фондов: для помощи старикам, инвалидам и детям-сиротам, а также культурно-бытовых.
4) Расходы на производственные нужды, развитие средств производства.
5) Оплата труда колхозников по трудодням.
Художник Каррус В. А. Хлеб государству
Согласно Уставу, фонды, обеспечивающие деятельность колхоза и хотя бы частичную защиту нетрудоспособных сельчан, формировались лишь после выполнения обязательств перед государством, МТС и банком. Нередко эти обязательства превышали общий объем продукции, произведенной сельхозартелью. Ничего не оставалось на обеспечение производства, не говоря уже об оплате труда колхозников.
Полное игнорирование материального стимулирования колхозников и не прекращавшиеся попытки власти принудить их к работе в общественном хозяйстве с помощью административных и карательных мер привели лишь к массовому неучастию в колхозном производстве. Принципы распределения произведенной колхозом продукции абсолютно не учитывали интересы ни колхоза, ни колхозников. При этом колхозы ничего не могли изменить в сложившейся ситуации. Ввиду необеспеченности трудодня, крестьянские семьи кормились за счет личных подсобных хозяйств, заработка в государственных предприятиях и отходничества.
Анализ ежегодных отчетов уполномоченного по Рязанской области от Совета по делам колхозов показывает, что одним из самых распространенных нарушений в колхозном хозяйстве в послевоенное время являлась низкая трудовая дисциплина. Отказ от выхода на колхозные работы был связан с различными факторами, но в целом объяснение кроется в нежелании крестьян работать в артели, практически ничего не получая в качестве оплаты своего труда.
В делопроизводственных документах постоянно встречаются сообщения о колхозниках, не выработавших обязательного минимума трудодней. Например, в протоколе общего собрания артели «Нацмен» от 7 февраля 1947 г. отмечалось, что к таковым относились 14 колхозников из 67. В жалобе секретарю обкома из колхоза «2-я пятилетка» Сараевского района в июне 1949 г. автор пишет, что из 165 членов колхоза 50 не выработали минимума трудодней. Особенно плохо работали родственники председателя, которым он разрешал заниматься только своим хозяйством.
Сельские должностные лица и их близкие старались обойти положения действующего закона и получить различные преференции, чувствуя себя «хозяевами колхоза». Нередко члены семей председателей, бригадиров и заведующих фермами практически не работали в общественном хозяйстве. Такие факты вызывали неодобрение и зависть односельчан, вносили напряженность в сельское общество.
Объем госпоставок сельхозпродукции для каждого колхоза определялся исходя из площади общественных земель и урожайности, причем, урожайности не реальной, а расчетной. При этом не учитывались такие объективные факторы, как нехватка техники и семян, природные явления (засуха или ранние заморозки). Власти не связывали невысокую выработку трудодней крестьянами с ничтожными выплатами из колхоза. Причину недостаточной активности сельчан в колхозном производстве они видели в их излишней занятости в личном хозяйстве и недостатке пропаганды и агитации. В мае 1947 г. Рязанский обком ВКП (б) предложил направить депутатов областного и районных Советов в колхозы и совхозы для проведения массово-политической работы.
Сельскохозяйственное управление облисполкома постоянно пыталось регламентировать деятельность колхозов вплоть до мельчайших шагов. Например, в апреле 1946 г. рассматривался вопрос об организации закупки яиц у сельчан сверх сданных в счет налогов. В принятом решении подробно описан процесс найма работников, организация скупки яиц на рынках и в сельских магазинах – вплоть до количества телег, курсирующих по селу и количества скупщиков яиц у сельчан, без учета специфики конкретных районов и сел. Стимулом для сельчан, продавших яйца государству, должна была служить возможность приобретения дефицитных товаров – а в тот период все товары были дефицитными – по льготным ценам.
Материальные стимулы для побуждения более активного участия сельчан в колхозном производстве практически не применялись. В сложившихся условиях их и невозможно было предоставить. В январе 1950 г. в девяти колхозах области провели проверку начисления и списания трудодней с колхозных бригад и звеньев в зависимости от полученного ими урожая. Выяснилось, что райисполком и сельхозотделы не сделали этого, считая, что вследствие низкой оплаты по трудодням и отсутствия во многих колхозах зерна и овощей для окончательного расчета с колхозниками, дополнительные начисления и списания трудодней не имеют существенного значения.
Хорошие работники отмечались грамотами, вымпелами, фотографиями на доске почета. На тех, кто трудился в колхозе недостаточно активно, пытались воздействовать карательными методами: по возможности лишить приусадебного участка, осудить за невыработку установленного минимума трудодней.
В июне 1948 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О выселении в отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и ведущим антиобщественный паразитический образ жизни».
В соответствии с этим указом общее собрание колхозников могло принять решение о высылке в отдаленный район страны односельчанина, мало работавшего в колхозе. Эта мера была бы поистине драконовской, если бы применялась повсеместно и ко всем не выработавшим норму трудодней. Канадский историк Джин Лаваск, подробно исследовавший практику применения Указа, отметил, что он изначально предназначался исключительно для стимулирования активности сельчан в общественном хозяйстве как предупредительная мера. Руководство страны отлично знало, как много колхозников в стране регулярно не вырабатывали минимума трудодней. Не могло быть и речи о том, чтобы выполнить указ на 100 %. В областные комитеты партии было разослано секретное закрытое письмо ЦК с разъяснениями, в котором содержались рекомендации о проведении собраний и последующей высылке нескольких нарушителей в пяти колхозах, расположенных в разных районах области.
Общее собрание в колхозе. Фото из открытого источника
Сведения о применении Указа в Рязанской области приведены в книге «История Рязанской области». В течение трех месяцев после принятия Указа в области провели 96 собраний, на которых присутствовало 26 тысяч человек. Поскольку в области в 1948 г. было более 3 000 сельских поселений, то легко посчитать, что собрания проводились примерно в 3 % деревень. Этот факт явно говорит о том, что Указ от 2 июня 1948 г. носил заведомо показательный характер, иначе собрания были бы проведены во всех населенных пунктах сельской местности. На собраниях приняли решения о выселении 189 колхозников и 48 сельчан-единоличников. У 175 человек взяли подписки с обязательствами добросовестно относиться к колхозному труду в дальнейшем, 60 человек предупредили устно.
Колхозников, не выработавших минимума трудодней, и после июньского указа 1948 г. в области насчитывалось немало. Согласно документам из фонда Совета по делам колхозов в РГАЭ, председатель Совета А. А. Андреев в июне 1951 г. поручил проверить использование трудовых ресурсов в колхозах Михайловского района Рязанской области. Выяснилось, что в 1950 г. из 7 148 трудоспособных колхозников района 2 411, то есть 34 % от общего числа, не выработали положенного минимума трудодней. Большинство из них – женщины, имевшие маленьких детей. Многие «нарушители» являлись членами семей колхозных руководителей: председателей, заведующих фермами, бригадиров.
Подобные факты говорят о том, что такая административная мера, как высылка из села, не привела к улучшению трудовой дисциплины в колхозах, а только лишь усилила протестные настроения сельчан. Е. Ю. Зубкова в своей статье «Мир мнений советского человека» приводит некоторые резкие высказывания крестьян во время общих собраний, как свидетельства неприятия попыток властей поднять производительность труда с помощью репрессивных методов. При этом большинство колхозников, хотя и были недовольны сложившейся практикой с оплатой их труда, работали добросовестно, отчасти потому, что отлынивание от общего дела всегда порицалось сельским обществом. А многие крестьяне прислушивались к мнению односельчан.
Листок календаря 1957 г. с сатирическим плакатом о колхозной жизни