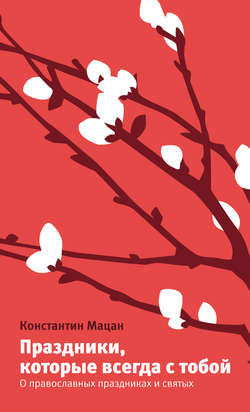Читать книгу Праздники, которые всегда с тобой. О православных праздниках и святых - Константин Мацан - Страница 12
Часть 1
От января до декабря
Собор трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста
12 февраля. 1 = 3
ОглавлениеТри святителя – Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст – настолько разные, что память их празднуют в один день. Различия лишь оттеняют общее в их мировоззрении. «В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь» – известный христианский афоризм. Святого Василия принято считать в первую очередь пастырем, святого Григория – молитвенником, святого Иоанна – в первую очередь проповедником. Это три грани одного и того же служения, и Церкви в любую эпоху нужны они все. Поверхность устойчива, как известно из геометрии, если стоит минимум на трех опорах. Не будет хватать одной из них – конструкция рухнет.
Историки отмечают в святом Василии Великом талант церковного организатора, в смысле – человека, который мыслит в категориях всей Церкви и судьбы христианской общины. А раз эта судьба напрямую зависит от того, как и во что христиане верят, то талант организатора неотделим от таланта богослова. При этом титула «Богослов» (именно так, с большой буквы) в церковной истории удостоился не сам Василий, а его ближайший друг – святой Григорий. Впрочем, Василий – не менее богослов, чем Григорий Богослов, а Григорий – святой не менее великий, чем Василий Великий. Только, в отличие от своего друга, Григорий был, скорее, созерцателем, а не организатором. Характер же святого Василия диктовал ему активно заниматься общецерковными делами и благотворительностью. Он осознанно шел к тому, чтобы стать священником, а затем и епископом. А вот святой Григорий епископом становиться не хотел, его привлекал путь уединенного монашества. Он писал стихи и даже сочинил поэтическую автобиографию – черта лирика, которому чужды административные заботы. Тем не менее таких забот ему хватило: стать епископом его уговорил святой Василий, которому нужны были союзники в богословской борьбе с ересями, а их в то время в Церкви было много. В борьбе святые друзья победили: Второй Вселенский Собор, прошедший в 381 году в Константинополе, утвердил учение святого Василия и святого Григория. Отныне их называют «отцами-каппадокийцами», потому что Василий Великий служил архиепископом в Кесарии Каппадокийской.
В историю Церкви они вошли тем, что разработали учение о Святой Троице. Догматов, которые много веков являются азами христианства, еще не существовало – их предстояло осмыслить, обосновать, а потом и утвердить, основательно поборовшись с идейными противниками за их правоту.
Дело в том, что в 325 году на Первом Вселенском Соборе в Никее был принят никейский Символ веры, в тексте которого употреблялось слово «единосущный»: «Верую… во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия. единосущна Отца.» Имелось в виду, что Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух – это три разные личности, но при этом одна сущность, то есть Единый Бог. Как это понять? Как один может равняться трем? Уже после принятия никейского Символа веры некоторые епископы вдруг засомневались: формулировка «единая сущность» казалась путаной, предлагали вроде бы более ясный термин – «подобная сущность».
Всего лишь вопрос формулировок – велика ли беда? Но от точности слов в данном случае зависит – ни много ни мало – то, в какую посмертную судьбу нам верить. Если Христос, Сын Божий, – не «единосущный» Богу Отцу, а всего лишь «подобосущный», значит, Христос – не Бог, а просто особый человек. А раз так, то Сын Божий не воплощался, не становился таким же, как мы, из плоти и крови, не умирал на Кресте и не воскресал, Бог не обожествлял и не исцелял человеческую природу – словом, Бог не даровал человеку перспективу спасения после смерти. И в чем тогда смысл христианства?
Защитить идею «единосущия» было главной задачей отцов-каппадокийцев. Сделали они это при помощи учения Аристотеля – ведь весь образованный мир того времени принадлежал к эллинистической культуре, то есть был воспитан на классической греческой философии. Аристотель говорил, что сущности бывают двух видов: первая сущность, которую он называл «ипостасью», и вторая сущность. Реальны для Аристотеля только ипостаси – первосущности. Это конкретные, реальные объекты. У каждого из них есть вторая сущность – некое общее, абстрактное представление об этом объекте, о его роде. По Аристотелю, вторых сущностей в реальности нет – мы можем о них говорить, как-то их представлять, но своего бытия они не имеют. Отцы-каппадокийцы взяли эту систему за основу, но дополнили ее принципиально важным утверждением: вторая сущность – также реально существует, просто мы не можем постичь ее средствами нашего мира. Это подводило к мысли о потустороннем Боге: в реальности Его существования верующим сомневаться не приходится, Он мир сотворил, но Сам – не часть этого мира и существует вне наших времени и пространства. Каппадокийское богословие предложило формулу: Три Лица Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, это, в терминах Аристотеля, три ипостаси, три первосущности, у каждой из которых есть свое отдельное личное бытие. А вот вторая сущность у них – одна на всех: это и есть Единый Бог. Так один равняется трем.
Учение отцов-каппадокийцев, принятое в 381 году в Константинополе на Втором Вселенском Соборе, дополнило никейский Символ веры: отныне он стал называться никео-цареградским. Это те самые слова, которые сегодня звучат на Литургии в каждом православном храме.
* * *
Жители Константинополя долго сомневались, кто из трех великих вселенских учителей должен быть самым почитаемым – Василий Великий, Григорий Богослов или Иоанн Златоуст. По преданию, в 1084 году митрополиту Евхаитскому Иоанну во сне явились три святителя и сказали, что нет среди них первого, и велели установить общий день памяти. Так появился Собор трех святителей. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою (Мф. 20: 26).