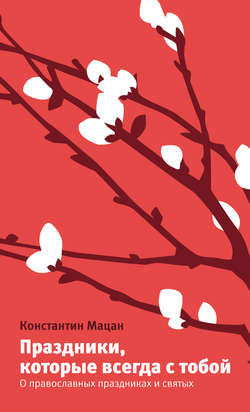Читать книгу Праздники, которые всегда с тобой. О православных праздниках и святых - Константин Мацан - Страница 9
Часть 1
От января до декабря
Преподобный Антоний Великий
30 января. Один, но не в одиночестве
ОглавлениеВ монастырь не уходят, туда приходят. Это утверждение можно было бы считать провокационным на фоне сложившегося в народе стереотипа о том, будто люди бегут в монастырь от огорчения – например, после несчастной любви – и скрываются от злого мира в монашеской келье, как в бункере. Этот стереотип разбивают своим примером тысячи современных монахов. Они и вправду ушли от мира – но в другом смысле. В каком – по-своему отвечает основатель отшельнического монашества преподобный Антоний Великий.
«Убежать от мира» он попытался еще на рубеже III–IV веков. Житель современного мегаполиса наверняка ясно представляет, почему человеку хочется укрыться от бешеного ритма цивилизации сегодня – от звонков мобильных телефонов, новостных поводов, лавин ненужной информации из соцсетей… Но от чего было «убегать» жителю Египта первых веков христианства? Ответить «не от чего» – значит признать бессмысленным поступок святого, которого Церковь называет Великим. А ответить положительно – не получится. И в этом, пожалуй, исчерпывающий ответ. Потому что правильней было бы спросить не «от чего убегать?», а «ради чего?».
Ради жизни во Христе, если коротко. По нынешним временам это может показаться общими словами. Потому что сегодня само понятие «православный христианин» применимо и к тому, кто каждую неделю исповедуется, и к тому, кто в первый и последний раз заходил в храм в детстве, когда крестили… Это не хорошо и не плохо, это факт – такова эпоха. Но эпоха святого Антония была другой. Только представьте: IV век, Христос ходил по земле «всего лишь» двести пятьдесят – триста лет назад. Те, кто все это время принимал христианство, были необычайно мотивированы, горели верой, принимали ее, несмотря на чудовищные гонения, которые – это было совершенно ясно – их неминуемо ждали. Для тех, кто крестился, вера была всем. Едва ли кто-нибудь решился креститься из любопытства, за компанию или по настоянию девушки. Такой подход не мог сложиться в тех культурных условиях. Людей, которые массово размышляли бы в таких категориях, просто не существовало.
И вдруг они стали появляться. Это не значит, что такие люди приходили к христианству неискренне. Просто культурные условия изменились. В 313 году римский император Константин издал Миланский эдикт, запрещающий гонения. Христианство стало разрешенной религией. И те, кто раньше боялся креститься, вероятно, осмелели. А те, кто даже не думал, открыли для себя новую веру. Постепенно христиан в мире становилось все больше и больше. Само по себе это не могло не радовать. Но у подобных процессов всегда есть одна – чисто социологическая – особенность: чем больше количество, тем ниже средние показатели. Христианство проникало в массовый быт – и неизбежно упрощалось, в чем-то теряя остроту и нерв. Общий духовно-нравственный уровень христиан неминуемо снижался – не радикально, конечно же, но ощутимо для тех, кто готов был вере во Христа посвятить всего себя без остатка. На общем фоне их было – как и сейчас – немного. Они искали новые формы жизни по-христиански, где острота веры не затухала бы, а, наоборот, расцветала. Им требовалось уединение – и они уходили в пустыню. Так в истории христианства появилось монашество. Монахи не убегали от мира, как если бы он их чем-то обидел; они убегали, чтобы построить свой собственный мир, где главным и единственным был бы Христос. Этот мир оказывался совсем иным. И человек в нем становился тоже иным – иноком, как позже на Руси станут называть православных монахов.
Святой Антоний считается основоположником одной из форм монашества – отшельничества. Как повествует житие, однажды на богослужении его, еще довольно молодого человека, вдруг по-настоящему «зацепили» евангельские слова Христа: Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною (Мф. 19: 21). Он поступил ровно так, как велел Спаситель. Продал вполне успешный «бизнес» – огромную финиковую плантацию, вырученные деньги раздал нищим, а сам удалился в пустыню, где всю жизнь молился в пещере. Постепенно вокруг него стал образовываться кружок учеников – многие были восхищены его подвигом. А главное, они действительно видели пример, как всего себя посвятить Христу.
И в этом кроется еще один очень важный момент, связанный с подвигом святого Антония. Христиане уходили в пустыню и до него. Но то были в основном монахи-одиночки – и они могли оказаться в изоляции не только от мира, но и в каком-то смысле от Церкви. А в такой ситуации бывает легко впасть в искушение, противопоставить себя Церкви: мол, только здесь, в пустыне, можно быть христианином, а попытки людей в миру – тщетны. Но ученики святого Антония – благодаря учителю – мыслили иначе: они жили отдельно друг от друга, но общий духовный наставник их объединял и не давал отколоться от Церкви как большой христианской семьи. Опыт святого Антония подчеркивает, что в этой семье нет табели о рангах. Простые миряне не меньше угодны Богу, чем монахи. Монахи – не меньше, чем епископы. Епископы – не меньше, чем простые миряне… Это разные пути и возможности жизни во Христе, Который для всех вчера, сегодня и во веки Тот же (Евр. 13: 8).
* * *
Говорят, это произошло с преподобным Антонием. Его спросили:
– Как бы вы поступили, если бы увидели, что монах заснул во время общей молитвы?
– Мы различаем грех и грешника, пусть брат не прав, ему все равно нужна наша любовь. Поэтому я бы подошел и тихонько покрыл его голову, чтобы ему лучше спалось.