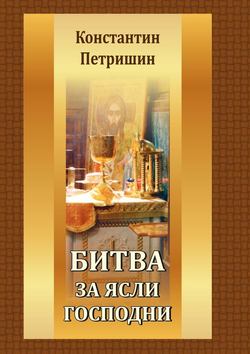Читать книгу Битва за ясли господни - Константин Петришин - Страница 3
Часть первая
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Оглавление1
Императрица Александра Федоровна с трудом уговорила супруга встретить наступающий Новый 1853 год в Красном Селе, а на Крещение вернуться в Петербург. Николай Павлович согласился только после того, когда Александра Федоровна в сердцах заявила, что ей надоело смотреть на его постоянный любовные интриги на балах с ее фрейлиной графиней Варварой Нелидовой и она готова уехать куда угодно, но подальше от Петербурга.
Николай Павлович не удивился осведомленности своей супруги. Он знал: Двор кишел сплетниками и доносчиками. И все же не удержался и спросил, делая вид незаслуженно оскорбленного до глубины души человека:
– Дорогая, но это же чушь!.. Кто тебе сказал?
Наверное, он это сделал напрасно. У Александры Федоровны полыхнул яркий румянец на щеках.
– Кто сказал? – Александра Федоровна метнула в сторону Николая Павловича быстрый недобрый взгляд. – Я тебе скажу. Мне принесли письмо графини Нессельроде, в котором она сообщает своему сыну, что государь… Да, да… Ты! Все больше и больше занят моей фрейлиной Нелидовой! Это у вас, сударь, что? Наследственное? Твой родитель император Павел держал в любовницах графиню Нелидову, а ты решил продолжить это занятие с ее племянницей? Побоялся бы бога!..
Николай Павлович, не ожидавший такого бурного разговора, даже растерялся.
– Но это все досужие выдумки и не более. У нас просто дружеские отношения, – ответил он. – Мало ли что в голову приходит этой… – Николай Павлович хотел сказать «старой дуре», но воздержался, подумав, что если его слова каким-нибудь образом дойдут до графа Нессельроде, которого он уважал и ценил за длительную и преданную службу сначала на посту министра иностранных дел, а затем в должности канцлера, может произойти то, чего бы он не желал.
Однако Александра Федоровна, задетая за живое, расценила недомолвку мужа по-своему.
– Я знаю, что ты, дорогой, хотел сказать! – заявила она. И на её усталых и нежных глазах навернулись слезы обиды и гнева. – Но тогда объясни мне: с графиней Мери Пешковой и графиней Бутурлиной у тебя тоже дружеские отношения? А с баронессой Крюндер? Кстати, прескверная немка эта баронесса!
Александра Федоровна отвернулась и тыльной стороной ладони смахнула с глаз непрошенные слезы.
«Боже мой! – со смутным ужасом подумал Николай Павлович. – Да она всё знает!..»
И ему не то, что стало неловко или стыдно, он почувствовал, насколько он виноват перед этой терпеливой и прекрасной женщиной, матерью его детей и терпеливой сострадалицей.
Николай Павлович подошел к супруге и неуверенно привлек её к себе.
– Прости, – сказал он. – Я полагал, ты ничего не знаешь… Как ты теперь поступишь – воля твоя. Но я даю тебе слово – больше ничего подобного не повторится.
– Я надеюсь на это, – ответила Александра Федоровна и тихонько высвободила плечи из объятий супруга. – Через полгода ты будешь отмечать свои 57 лет. В такие годы мужам на место ветрености приходит мудрость. Правда не со всеми это случается, – добавила она.
Николай Павлович вдруг вспомнил слова графини Россет, которая однажды в разговоре с ним полушутя полусерьезно заявила, что при Дворе много говорят о его тайных посещениях с графом Адленбергом воспитанниц Смольнинского института. И при этом так загадочно улыбнулась, что ему стало не по себе.
…Встреча Нового года в Красном Селе прошла утомительно и скучно. Бал был похож на все предыдущие.
Императрица Александра Федоровна больше времени сидела в кресле, уединившись со своей подругой графиней Александрой Осиповной Россет.
После 12 ночи к Николаю I подошел граф Адленберг с двумя бокалами шампанского. На нем была шутовская маска, которая, однако, не прикрывала розового шрама на лбу. Еще будучи детьми они играли в войну и Николай в запальчивости ударил прикладом небольшой винтовки своему другу прямо в лоб. Увидев хлынувшую кровь, испугался до смерти, убежал и спрятался в покоях отца, боясь неминуемого наказания со стороны ненавистного наставника графа Ламсдорфа, который, не стесняясь, бил его и старшего брата Александра головой о стену или еще хуже – шомполом. Мать, Мария Федоровна, не видела в этом ничего дурного, и только отец мог спасти от подобного наказания.
– …За Новый год, ваше величество! – сказал граф Адленберг, подавая Николаю I бокал с шампанским. – Что-то я не вижу радости на вашем лице, мой государь, – смешливо заметил он. – Кто вас так расстроил?
Николай I усмехнулся.
– Ты, дорогой друг…
У графа Адленберга от удивления даже вытянулось хлыщеватое напомаженное лицо.
– Я-я-я? – переспросил он с удивлением. – Чем?
– Да так… Ни чем. Просто я пошутил… – ответил Николай I и переменил тему разговора. – Смотрю я на нашего канцлера и думаю: что бы делал без него? Он с самого начала бала порывался подойти ко мне и сообщить, по всей видимости, какую-нибудь прескверную неприятную новость, однако почему-то до сих пор не подошел.
Граф Адленберг обернулся и отыскал глазами в дальнем углу зала графа Нессельроде. Тот стоял рядом с министром иностранных дел графом Титовым и князем Меньшиковым, и время от времени поглядывал в сторону государя.
– Да-а-а… – протянул граф Адленберг. – Глядя на лицо нашего канцлера, не скажешь, что он рад Новому году.
– Значит, буду не рад и я, – заметил скучно Николай Павлович. – Да бог с ним. Утро вечера мудренее. Посмотрим, что скажет он мне завтра…
– Уже сегодня, – уточнил граф Адленберг.
– Да, ты прав, – согласился Николай I. – Однако, я полагаю, он мне хотя бы выспаться даст.
…В полдень 1 января, когда Николай Павлович направился в покои императрицы Александры Федоровны, чтобы пожелать ей доброго дня и справиться о ее здоровье, дежурный флигель-адъютант доложил, что в приемной его дожидается канцлер граф Нессельроде.
«Ну вот… Сбылось», – подумал Николай Павлович и, запахнув халат, пошел в приемную.
Завидев государя, Нессельроде поспешил ему навстречу. Вид у канцлера был озабоченный.
– Ваше величество, простите меня за несвоевременный доклад, но у меня неотложное известие…
Николай I остановился и с легкой тревогой посмотрел на графа Нессельроде.
– Слушаю вас, Карл Васильевич.
– Ваше величество, мне вчера стало известно, что наш двухгодичный спор с Константинополем и Парижем о принадлежности ключей от Вифлеемского храма, решен не в нашу пользу. Император Наполеон убедил турецкие власти забрать ключи от Вифлеемского храма у православной общины и передать их католикам. В Париже уже ликуют по этому поводу, – упавшим голосом добавил Нессельроде.
Николай I почувствовал, как у него внутри вспыхнула и разлилась по всему телу горячая гневная волна.
– Сволочи! – тихо произнес он, но в его голосе было столько испуганной ненависти, что граф Нессельроде даже содрогнулся.
Попросив разрешения уйти, он тут же быстро удалился. А государь направился в покои императрицы. Первое, что пришло в голову: заставить любыми средствами султана Порты отменить свое решение. «Иначе, – подумал он, – одолеют черти святые места».
…Александра Федоровна встретила Николая Павловича приветливо, поинтересовалась его самочувствием и вдруг спросила:
– Ну и что ты теперь намерен делать?
Николай Павлович удивленно посмотрел на Александру Федоровну.
– Вы о чем, сударыня? – нарочито насмешливо спросил он.
– О том, о чем тебе только что доложил граф Нессельроде, – ответила она.
Николай Павлович качнул головой.
– Ну и ну… Верно говорят в народе: в мешке шила не утаишь. А при моем Дворе это шило и в стоге сена не упрячешь. Значит, тебе уже доложили. Не графиня ли Россет? Она вчера весь бал от тебя не отходила.
– Нет, дорогой, – загадочно улыбнувшись, ответила Александра Федоровна. – Графиня Россет здесь не причем.
– Значит, у тебя при Дворе есть свои шпионы?
На продолговатом лице Николая Павловича появилось неподдельное изумление.
– Конечно, есть, – ответила императрица. – Иначе бы я откуда знала всё… Но ты не ответил на мой вопрос.
Николай Павлович сразу помрачнел. Он и в самом деле не знал, как ему теперь поступить. Начатый два года тому назад Парижем спор с Россией за ключи от храма яслей Господних, Николай I расценивал как посягательство на законные права греко-русской православной общины. Да и на территории самой Османской империи православие исповедовало чуть ли не половина подданных султана.
– Не знаю, – ответил Николай Павлович. И тут же спросил: – А что ты мне посоветуешь?
Александра Федоровна внимательно посмотрела на Николая Павловича.
– В делах человеческих сам бог свидетель и потому я бы посоветовала тебе не принимать необдуманных решений, – ответила она и немного помолчав, добавила. – Ты же знаешь: сегодня половина Европы настроена против тебя и в первую очередь – Париж. Помнишь, когда к власти во Франции пришел герцог Орлеанский Людовик Филлит, ты приказал выдворить из русских портов все французские корабли, которые подняли на своих мачтах трехцветный республиканский флаг. Потом, когда этого выскочку сменил Людовик Наполеон Бонапарт и провозгласил себя императором, ты и его не признал. Вернее полупризнал. Ты что мне тогда сказал? «Это лучше, чем республика, но признать его – выше моих сил».
Николай Павлович грустно усмехнулся.
– И ты все это запомнила?
– К сожалению, видимо, не я одна… – ответила Александра Федоровна.
– Ну и что я теперь должен делать?
Вопрос Николая Павловича прозвучал отрешенно и даже, как показалось Александре Федоровне, растерянно. Она встала из кресла, подошла к супругу и, слегка дотронувшись кончиками тонких почти прозрачных пальцев до его щеки, ответила:
– Я знаю, ты не благосклонен к Пушкину, но он был прав, когда однажды сказал тебе, что Европа по отношению к России всегда была невежественна и неблагодарна. Но сейчас не это главное. Тебе надо найти понимание и поддержку среди наших друзей.
– Ты хочешь убедить меня в том, что в этом споре я останусь один? – немного подумав спросил Николай Павлович.
– Это уже не спор, дорогой. Против тебя объявлен крестовый поход…
До конца дня Николай I не находил себе покоя. Он уединился в своем кабинете и приказал флигель-адъютанту генералу Васильчикову никого к нему не пускать.
Сначала он долго сидел в кресле, потом медленно ходил и все думал, как случилось, что он позволил своим недругам возомнить, что им дозволено все.
…Не прошло и года после того страшного декабрьского дня 1825 года, когда он с божьей помощью переборов в себе страх и вселив веру в немногих оставшихся преданных ему офицеров, сумел подавить бунт на дворцовой площади, как на него снова обрушилось новое испытание. Персия без объявления войны напала на пограничные русские укрепления. Но и на этот раз бог оказался милостив. Сначала русские войска под командованием генерала Манакова разбили персов на реке Шамхора, затем войска блистательного генерала Паскевича заставили бежать персидские войска в свои пределы. Весной следующего года Паскевич с русской армией вступил на территорию Персси и в начале октября осадил и взял главную крепость персов Эривань. И зазвенели по всей России благовестные колокола о его первой серьезной победе.
Николай потребовал от Паскевича предъявить персам за их разбойное нападение самые жестокие условия мира. В результате к России отошли две пограничные области: Эриванская и Нахичеванская.
Европа словно не заметила случившегося на Кавказе. Беспокойство проявила только одна Англия. Кавказ давно привлекал внимание англичан. Через него проходили все торговые пути, связывающие Европу с Индией. И англичане не прочь были держать их под своим контролем.
Однако на Кавказе оставался еще один беспокойный сосед – Османская империя, чьи владения охватывали значительную часть Закавказья, северное и восточное побережье Черного моря, доходили до Средиземноморья, включая Балканы и Северную Африку…
Все эти воспоминания словно в калейдоскопе промелькнули в сознании Николая I и оставили тяжелый след.
…Ранние январские сумерки уже проникли в кабинет Николая I, когда вошла Александра Федоровна.
– Приказал бы свечи зажечь, – проговорила она, тревожно вглядываясь в лицо Николая Павловича. – Не заболел ли?
Она действительно была встревожена отсутствием супруга в течение дня.
…Прошло много лет после того несчастного случая, когда во время поездки Николая I по России на дороге между Пензой и Тамбовом его коляска опрокинулась и государь получил сильный ушиб головы и перелом ключицы.
Ключица со временем срослась, однако головные боли у Николая I стали с того дня постоянным явлением. От того он часто раздражался и ходил с бледным, словно полотно, лицом.
– Свечи зажечь? – рассеянно переспросил Николай Павлович. – Да будет исполнена ваша воля, сударыня.
Он тяжело встал из кресла, подошел к двери и, приоткрыв ее, попросил флигель-адъютанта распорядиться, чтобы зажгли свечи в его кабинете.
Когда свечи были зажжены, и они снова остались вдвоем, Николай спросил:
– Долго ли мы еще будем находиться в Красном Селе, ваше величество?
Слова были произнесены насмешливо, но императрица уловила в них тревожные нотки и все поняла.
– Если хочешь, завтра можно возвращаться в столицу, – ответила она с обворожительной улыбкой.
Николай Павлович посветлел лицом.
– Вот и славно! – отозвался он. – Значит завтра поутру сбор и в дорогу. – На минуту задумался и продолжил: – Ты сказала мне о крестовом походе против меня. Если это так, я буду биться за ясли Господни до последнего своего дня. Я это уже решил. Мой спор с Наполеоном о ключах – это не прихоть. Я знаю, многие осудят меня за это. Для них высшим благом является жить в просвещенном обществе, как они говорят. И им наплевать, быть христианской вере на земле или не быть…
Николай Павлович говорил и говорил, а Александра Федоровна слушала, стараясь скрыть не ясно откуда взявшуюся тревогу. Наконец, когда он умолк, спросила:
– Ты хочешь начать войну за христианскую веру?.. – вопрос этот Александра Федоровна задала осторожно. И тут же продолжила: – Однако ты обязан быть уверен, что тебя поймут и поддержат те же христианские народы, коих много и в самой Османской империи.
Николай Павлович вздохнул так, словно он был обречен.
– У меня нет другого выбора, – ответил он еле слышно. И добавил: – Под богом я хожу и ношу его волю. И пока я не развяжу раз и навсегда турецкий узел, ждать добра России не придется. Ты, наверное, не забыла, как я еще в 1826 году принудил султана подписать договор, по которому он обязался обеспечить автономию православным народам Малахии и Молдавии и не посягать на независимость Сербии. А что же получается на деле? Турки, на бумаге признавая автономию Дунайских княжеств, на деле попирают ее и по-прежнему грозят сербам. А что делает в это время просвещенная Европа?
– Созерцает на твои труды и завидует тебе, дорогой, – ответила Александра Федоровна.
– И не только созерцает и завидует! – словно возражая императрице, заметил Николай Павлович. – Она еще и наполняется злобой против меня! Но почему? Если бы ни Россия, революции и бунты в сорок восьмом и сорок девятом годах превратили бы половину Европы в пепел!.. Ну ничего!.. Они уже не раз поплатились за это. Поплатятся и еще! Ибо берут на себя великий грех!
Александра Федоровна согласно кивнула головой.
– Да… да… Я помню, – сказала она, – как австрийский фельдмаршал Кабога валялся в ногах у нашего генерала Паскевича, моля его спасти Австрию от венгерской революции…
– А император Франц Иосиф, при всех целовал мне руку, – добавил Николай Павлович с горькой усмешкой. Немного помолчал и продолжил: – Короткая же у них память… И это не мудрено. Старая шлюха Европа всегда была себе на уме. И попомни мои слова: все наши беды замышлялись, замышляются и будут замышляться в Европе! И кто об этом забудет – горе тому!
Эти слова Николай Павлович произнес настолько прискорбно, что у Александры Федоровны даже екнуло что-то под сердцем.
Ей вдруг показалось, что перед ней уже не тот Николай I, перед которым пресмыкалась Европа в страхе и ужасе от обрушившихся на нее революций и переворотов. А совсем другой, истерзанный мучительными сомнениями и обидами, человек.
Она радовалась за него, когда в 1826 году Николай I предложил чопорной Англии заключить договор о совместных действиях против Султаната, дабы заставить ее признать независимость православной Греции и Лондон поспешно согласился. Дал свое согласие и Париж. Теперь же все они готовы были выступить против России и ее законных требований.
«…Значит, что-то произошло, что-то случилось… – подумала она с тревогой. – А впрочем, чему удивляться: сатана и святых искушает».
– …Единственная держава в Европе, на которую я еще могу как-то положиться, – продолжил свою мысль Николай Павлович, – это Австрия… Возможно Пруссия. Но прусакам я не верю. Ты уж не обижайся на меня…
Александра Федоровна была хорошо осведомлена графом Нессельроде о планах Николая I по отношению к Австрии и Пруссии. Одно время Николай Павлович даже вынашивал мысль о передачи Австрии польского города Кракова, а чтобы укрепить трон Габебургов, Николай I послал за Карпаты 100-тысячную русскую армию для подавления восстаний в Венгрии и Ломбардии – владениях Австрийской империи.
…Ужинали они вместе. Затем Александра Федоровна удалилась в свои покои и до полуночи, стоя на коленях, молилась перед святыми образами, вымаливая у Всевышнего милости божьей и благословения для супруга в его помыслах во имя спасения веры христианской. Она верила – велико имя Господне на земле и потому полагала, что он не оставит их в делах божьих.
…Утро следующего дня выдалось на редкость солнечным. В девятом часу Николай I вернулся с прогулки. Выглядел он посвежевшим и был в хорошем расположении духа.
В девять часов в столовую подали кофе. Этот распорядок был заведен Николаем I давно и неукоснительно соблюдался.
Александра Федоровна с утра оделась по-дорожному, чтобы своим видом показать супругу готовность возвращаться в Петербург.
Николай Павлович это заметил и улыбнулся.
– Ты знаешь, за что я тебя люблю?
– За что? – спросила императрица.
– За то, что ты всегда умела показать свою покорность.
– Для женщины это необходимо, – ответила Александра Федоровна. – Это для вас покорность связана с честолюбием… А для нас – это оружие против вас. Так что ты решил? – вдруг спросила она.
Николай Павлович сделал глоток кофе из чашки, поставил ее на стол и только после этого ответил:
– По приезду в Петербург я немедленно отправлю князя Меньшикова в Константинополь. Если он не убедит султана изменить свое решение в отношении ключей от Вифлеемского храма, я заставлю его это сделать иным путем…
2
Решение Николая I направить в Константинополь князя Александра Сергеевича Меньшикова чрезвычайным послом для ведения переговоров с турецким правительством было не случайным.
Князь Меньшиков, правнук светлейшего князя Ижорского, одного из сподвижников Петра Великого, в свои 65 лет был человеком известным не только в России и в Европе, но и в Турции.
В первой турецкой кампании он командовал отрядом отдельного кавказского корпуса, овладел крепостью Анапа, затем брал Варну. Был начальником главного морского штаба, а когда в Финляндии началась смута, Николай I назначил туда князя Меньшикова генерал-губернатором.
…На второй день по возвращению в Петербург Николай I вызвал к себе графа Нессельроде и поручил ему пригласить в Петербург князя Меньшикова, а министру иностранных дел графу Титову снабдить Меньшикова всеми необходимыми документами и подготовить его поездку в Константинополь в качестве посла с чрезвычайными полномочиями.
Граф Нессельроде внимательно выслушал государя и, когда тот закончил говорить, спросил:
– Ваше величество, простите, но меня интересует, каким временем мы располагаем для подготовки этой поездки?
Николай I на мгновение задумался.
– Не больше трех недель, – ответил он. – И еще, убедительно прошу вас, Карл Васильевич, забыть о своей неприязни к князю Меньшикову хотя бы на это время…
– Ваше величество!.. Помилуйте!.. – воскликнул граф Нессельроде и театрально взмахнул руками.
– Я все знаю, Карл Васильевич! – прервал его государь. – И прошу помнить, что я вам сказал. Спрос будет не только с князя Меньшикова, но и с вас вместе с министром Титовым. Все. Я вас больше не задерживаю.
Граф Нессельроде сделал низкий поклон и бесшумно, словно тень, вышел из кабинета Николая I.
…С министром иностранных дел графом Титовым Нессельроде встретился в этот же день на казенной квартире, которая располагалась на Васильевском острове.
Граф Титов ни сколько не был удивлен, когда услышал от Нессельроде волю государя.
– Все шло к тому, – спокойно и даже, как показалось Нессельроде, равнодушно ответил граф Титов. – Наши походы против засилья турками интересующих Россию территорий ровным счетом ничего не дали. Кроме бесчисленных жертв.
Нессельроде в ответ иронически усмехнулся.
– Я бы так не сказал, – возразил он. – Во-первых, вы, дорогой граф, забываете, что в результате этих, как вы выразились походов и бесчисленных жертв, Россия приобрела твердую границу с турками в Европе по Пруту и Нижнему Дунаю. Во-вторых, дунайские княжества получили свободу богослужения и независимое управление от султана. В-третьих, в Азии мы отодвинули свои границы к югу, получили торговый город Ахалцык и крепость Ахалкалахи. И наконец, в-четвертых, Сербия вернула себе шесть округов, ранее принадлежащих туркам. Все это стоило понесенных жертв, – заключил Нессельроде и выжидающе посмотрел на слегка смутившегося графа Титова, который почувствовал, что разговор с канцлером пошел не по тому руслу и даже мог стать небезопасным для него.
– Да… да… Вы правы, Карл Васильевич, – согласился поспешно граф Титов с видом человека, который глубоко осознал свою ошибку. – Государь иначе поступить и не мог. Отодвинуть турок с южных границ было заветным желанием и прародительницы его величества Екатерины. К этому же стремился и Великий Петр, – граф Титов сделал глубокомысленную паузу, затем продолжил: – Воля государя для нас – закон. К тому же, все, что случается, – не по нашему хотению, а по божьему изволению. И я тот час же приступлю к делу.
Титов подумал, что все вопросы уже обговорены и можно откланяться, однако Нессельроде не торопился его отпускать. Это было видно по всей его угрюмой фигуре.
– Карл Васильевич, вы что-то еще хотели мне сказать? – спросил Титов, заметив тень раздумья на лице канцлера.
– Да… – ответил тот и бесцельно поправил круглые очки в золотой оправе. – Надо полагать, поездка в Константинополь нашего чрезвычайного посла не останется без внимания европейских держав.
– Конечно, не останется! – живо согласился граф Титов. – И в первую очередь со стороны Парижа и Лондона. И если англичане пока ведут себя сдержанно, французы только и ищут повод для ссоры с нами…
– Этот повод у них уже есть… – задумчиво произнес граф Нессельроде.
– Карл Васильевич, видит бог, но они сами идут на обострение, – словно возражая Нессельроде, заметил граф Титов. – Насколько мне известно, архиепископ парижский Сибур открыто проповедует за священную войну с Россией, призывая сокрушить ересь! Надо полагать, он имеет в виду греко-русскую православную церковь!..
Нессельроде грустно качнул головой.
– Нелегко придется нашему князю Меньшикову, – сказал он. Подумал и добавил: – Как бы и нам с вами головы не сносить…
Последние слова канцлера, казалось, не произвели на графа Титова никакого впечатления.
– На все божья воля, – ответил он. – Человек ходит, а бог водит…
– Это верно, – согласился Нессельроде. – Однако на господа-бога надейся, а сам не плошай… Ну что ж… Я полагаю, мы все обсудили?
– Будто бы все, Карл Васильевич…
– Тогда за дело, дорогой граф. Времени у нас действительно мало.
Проводив графа Титова в приемную и, попрощавшись там с ним, Нессельроде прошел в гостиную, где его ожидала супруга.
– Поговорили? – спросила она и, отложив в сторону кружева, которыми занималась с величайшим удовольствием, продолжила: – Хочешь дам тебе один совет?
Нессельроде чуть заметно усмехнулся. Он всегда считал государственное занятие не женским делом.
– Сударыня, вы желаете участвовать в государственных делах? – спросил он, не в силах скрыть иронии в голосе.
– Нет, сударь, – в тон ему ответила графиня. – В наших делах. Так вот мой совет: не теряя времени, прикажи проследить за перепискою иностранного ведомства и самого графа Титова, и ты узнаешь больше, чем будет докладывать граф Титов государю. Это тебе может очень пригодиться в нужную минуту. Что касается князя Меньшикова, то третьему отделению его величества канцелярии тоже не помешает проследить и за его перепиской.
Граф Нессельроде, не ожидавший от супруги такого разговора, даже почувствовал легкую растерянность, но тут же справившись с собой, спросил:
– Ты это, матушка, сама придумала или кто-то посоветовал?
Графиня обиженно поджала тонкие сухие губы.
– А ты как думаешь?
Нессельроде слегка пожал плечами. Он решил сгладить обиду, невольно нанесенную супруге.
– Я полагаю, ты права. Спасибо, дорогая, за совет, – поблагодарил супругу Нессельроде и поцеловал ей руку, надеясь, что этим искупит свою вину.
Графиня же расценила слова супруга по-своему. Хорошо зная недостаток Карла Васильевича легко поддаваться порывам паники и откровения, она решила продолжить начатый разговор.
– Если я права, дорогой сударь, тогда позволь дать тебе еще один совет. Барон Корор как-то сказал мне, что господа из третьего отделения глупы и никогда ничему не учились. Я не знаю, так ли это или нет. Однако они находятся под покровительством государя. Поэтому, дорогой, будь осторожен с ними…
На высоком с залысинами лбу Нессельроде отразилось удивление. Супруга еще раз заставила его испытать легкое чувство растерянности.
– Я знаю этих рьяных опекунов русского общества, – успокоил супругу Карл Васильевич. – Извини, но мне пора и за дела браться, – добавил он и удалился.
…Ночь для графа Нессельроде прошла в смутной душевной тревоге. Сначала он лег в постель, потом встал и прошел к креслу стоящему в углу его спальни. Свечей не зажигал. Его мысли, расстроенные каким-то невнятным предчувствием, не давали успокоиться и заснуть. Он вдруг вспомнил годы царствования Александра I, который мог без труда овладеть Константинополем, пользуясь внутренними раздорами в султанате, открыть России пути выхода из Черного моря и защитить греко-русскую православную церковь. Однако этого не произошло.
Нессельроде прошел к окну и слегка отодвинул тяжелую бархатную штору. На улице в свете луны тускло серебрился лохматый снег, заваливший все кругом. Чуть слышно монотонно гудел напористый ветер, да где-то под крышей позванивали невидимые ледяные сосульки.
«…Александр I слыл романтиком, – подумал Нессельроде, – и ему чужды были идеи, которые лежат в основе любой войны. Что же теперь предпримет более жесткий и решительный Николай I, чтобы защитить православную веру? Объявит войну? Но это немыслимо!.. Россия не готова к такой войне…»
Под утро Нессельроде все же уснул, так и не найдя ответа на свой вопрос.
3
Не первый год, возглавляя правительство России, граф Нессельроде не мог не видеть, как ухудшаются отношения с Францией.
Избранный президентом в 1848 году Людовик Наполеон, не довольствуясь президентской властью, 20 ноября 1851 года совершил переворот, подавил недовольных военной силой и через год объявил себя императором Наполеоном III.
Николай I был раздражен случившимся во Франции. И хотя государь как-то сказал Нессельроде, что лучше Наполеон III, чем республика, признать нового императора он не хотел.
Будучи прожженным политиком Нессельроде уже тогда понял: Наполеону как воздух нужен успех, добытый не внутри Франции, а вне нее. И Нессельроде не ошибся.
Сначала Наполеон намеревался объявить войну Англии, которую боялись и ненавидели половина французов. Но взвесив все за и против, он отказался от рискованной затеи, памятуя поражение французской армии от англичан в Булонском сражении. Была и другая причина, которая удерживала его от этого шага. Изганный из Франции в юные годы, он нашел себе укрытие и понимание в Англии. Благодарность, которую он еще хранил в душе к этой стране, сдерживала его и заставляла все больше и больше думать о мести России и за проигранную русским войну в 1814 году, и за пренебрежение русского монарха к его императорскому титулу.
В конце прошлого года Нессельроде получил из Парижа от своего посла депешу, в которой сообщалось о том, что в ноябре в Булонском дворце состоялась секретная встреча министра иностранных дел Франции де Лакура с министром иностранных дел Англии лордом Русселеном, на которой шла речь о возможном союзе в войне против России, если она не уступит в споре о ключах от Вифлеемского храма.
Когда Нессельроде доложил о содержании депеши Николаю I, тот воспринял эту неожиданную новость совершенно спокойно, заметив при этом, что извечные враги не могут быть хорошими союзниками.
Теперь, вспоминая об этом, граф Нессельроде и сам приходил к выводу: войны не миновать. Зачем тогда государю посылать князя Меньшикова в Константинополь? Оттянуть время, или он все же надеется избежать конфликта в борьбе за святое дело? «Скорее всего, последнее, – решил Нессельроде. – Однако пусть бог рассудит… Чему быть – того не миновать…»
…6 января во второй половине дня графу Нессельроде доложили, что прибыл князь Меньшиков.
Нессельроде вышел его встречать. Провел в кабинет и усадил в кресло.
– Угощать, князь, я ничем не буду, – сказал Нессельроде, усаживаясь в кресло напротив. – Не до угощений теперь.
Князь Меньшиков снисходительно улыбнулся, и эта улыбка не ускользнула от внимательного взгляда Нессельроде, как и то, что Меньшиков приехал в парадном мундире при орденах и лентах, и выглядел так, словно собрался на парад.
Нессельроде вскипел внутри, но тут же взял себя в руки, памятуя наказ государя держаться с князем Меньшиковым в мире.
– Я и не рассчитывал на угощенье, – ответил князь Меньшиков. – Коль дела у нас предстоят серьезные, давайте не будем терять времени на пустословие.
Нессельроде снес и эту скрытую обиду.
– Я полагаю, князь, вы уже знаете, зачем вас пригласили в столицу? – спросил Нессельроде.
– В общих чертах, Карл Васильевич – ответил князь Меньшиков.
Нессельроде понял, что тон разговора надо менять иначе получится словесная дуэль, а не обсуждение плана переговоров в Константинополе.
– Александр Сергеевич, я выполняю волю государя и хочу, чтобы ваша поездка в Константинополь увенчалась успехом. Поверьте в мою искренность, – сказал Нессельроде.
– Я тоже этого желаю, Карл Васильевич, – смягчился князь Меньшиков. – Я слушаю вас.
…Когда их разговор подошел к концу и все детали будущих переговоров были обсуждены, за окнами уже начали сгущаться фиолетовые сумерки.
– …На днях государь отправит через графа Титова послание султану. Я надеюсь, Титов с ним вас ознакомит, – сообщил Нессельроде. – Мы все будем молить бога, и надеяться на положительный исход ваших переговоров. Хотя… – он сделал короткую паузу и сокрушенно развел руки. – Если вдуматься во все происходящее за последнее время, веры остается мало…
Откровенное признание канцлера слегка смутило князя Меньшикова.
– Вы не верите в успех переговоров? – прямо спросил он.
– Дорогой князь, верить я обязан господу богу и царю, божьему помазаннику. Во всем остальном я обязан по долгу своей службы сомневаться, – ответил Нессельроде и продолжил: – Вы не хуже меня знаете, что на протяжении уже долгого времени идет спор между греко-русской православной и римско-католической церквями за владение святыми местами. Можно понять и султанат, который навлекает на себя гнев то России, то Англии с Францией…
– Но позвольте, граф, – нетерпеливо перебил Нессельроде князь Меньшиков. – До половины нынешнего столетия, ключи от Вифлеемского собора были в руках православной общины и ни у кого это не вызывало сомнений. Все началось с появления на французском троне Людовика Наполеона!.. Разве не так?
– Я с вами согласен, Александр Сергеевич, – тут же согласился Нессельроде. – Однако нам от того не легче. По сведениям, которыми я располагаю, в Константинополе уже побывал французский генерал Опик и в ультимативной форме потребовал от правительства Турции передать французским монахам право на владение кроме святыни Рождества Господня, так же гроба Пресвятой Богородицы, камня помазания и право на ремонтные работы купола Святого Воскресения, который пострадал, как вы знаете, при пожаре в 1808 году. Есть опасения, дорогой князь, что турецкие власти снова пойдут на уступки Парижу. На этом и основана моя тревога, – пояснил он и продолжил. – А потому мой вам совет: лучше начать переговоры в Константинополе с Верховным визирем Турции Мехмедом Али. По моему мнению, он является одним из тех, кто наиболее разумно подходит к нашим требованиям. Ну и последнее, князь, – произнес Нессельроде, поднимаясь с места. Он прошел к столу, взял несколько бумаг и подал их князю Меньшикову. – Это копия договора Турции с Францией на пользование Святыми местами, который был подписан ими еще в 1740 году. Он вам может пригодиться. Дело в том, что в этом договоре нигде не перечислены те святыни, на возврат которых настаивал генерал Опик.
Князь Меньшиков оживился.
– Карл Васильевич, это в корне меняет положение дел! – сказал он. – Почему же вы сразу мне об этом не сказали?
Нессельроде лукаво улыбнулся и поправил двумя пальцами свое безупречное жабо.
– Должен же я был чем-нибудь вас порадовать под конец беседы. Однако хочу вас предупредить сразу. Вы особенно не надейтесь на этот документ. Азиаты – народ хитрый и лукавый. Ко всему прочему в Париже снова появилась брошюра местного священника. Если не изменяет мне память… По-моему Боре, – вспомнил Нессельроде после минутного раздумья. – Брошюра откровенно враждебная к нам. Одним словом этот Боре призывает светские и духовные власти Франции идти с мечом и крестом за права латинской церкви владеть палестинскими святынями. Надо полагать, Наполеон этим воспользуется. Я боюсь одного. Если нас не поддержит Европа, она поддержит Наполеона.
– Даже Австрия и Пруссия? – с некоторым удивлением спросил князь Меньшиков.
– Насчет Австрии и Пруссии не знаю. Хотя надежды и на них мало…
– А как же наша императрица Александра Федоровна?..
Граф Нессельроде удрученно вздохнул.
– Да… да… да… Фредерика-Луиза-Шарлота-Вильгельмина, дочь прусского короля Фридриха Вильгельма. Это вы хотели сказать?
– Совершенно верно, – подтвердил князь Меньшиков. – Я полагаю семейные и кровные узы должны что-то значить.
Граф Нессельроде как-то странно хмыкнул и снова погрузился в кресло. Бесшумно побарабанил пальцами по кожаному валику и только после этого ответил:
– Дорогой мой, князь Александр Сергеевич, я бы тоже так хотел думать. Однако наш государь отдавал предпочтение в делах своих больше Австрии, нежели Пруссии. Единственное на что мы с вами можем надеяться – это на сочувствие православных, живущих в землях, где наш государь-император, не жалея средств, строил и содержал церкви и монастыри, исполняя свой долг будучи царем единственной в мире державы, на протяжении веков исповедующей православие и учение греко-русской церкви. И если они, связанные с нами узами единоверия, будут это помнить, посягать на Россию – значит посягать на все эти народы. Тогда можно надеяться на то, что наши с вами бескорыстные и праведные труды принесут пользу Отечеству и удовлетворение государю.
Последние слова граф Нессельроде произнес почему-то с оттенком неподдельной грусти и князь Меньшиков вдруг понял: Нессельроде знает больше, чем сказал ему. Да и сам князь Меньшиков понимал: на долю государя выпадало испытание более тяжкое, нежели то, которое он испытал на себе в конце 1825 года.
…В ту осень император Александр уехал с императрицей Марией Федоровной в Таганрог по настоятельному совету врачей. С царицей творилось что-то неладное. Она то задыхалась, то жаловалась на боли в груди. В семье Александра поселилось мрачное настроение. Все переживали за Марию Федоровну. И вдруг из Таганрога пришла печальная весть: тяжело заболел государь. С каждым днем состояние здоровья Александра становилось все хуже и хуже.
…27 ноября в церкви Зимнего дворца шел молебен во здравие государя. Молебен подходил уже к концу, когда к великому князю Николаю Павловичу подошел расстроенный камердинер и что-то тихо ему сказал.
Николай Павлович побледнел и растерянно оглянулся по сторонам.
Князь Меньшиков находился недалеко от Николая Павловича и увидел его глаза полные ужаса и страха.
Состояние великого князя заметили и другие. Священник остановил молебен. В церкви наступила гробовая, холодящая душу, тишина. Все взоры были обращены в сторону Никола Павловича.
– …Государь Александр Павлович скончался, – почти по слогам с трудом объявил Николай Павлович и добавил: – Мне только что передали…
По церкви прокатился глухой вздох. В нем сплелись и ужас, и горечь, и отчаяние. Это князь Меньшиков скорее почувствовал, чем услышал.
Затем кто-то заплакал навзрыд и вдруг плачущий вопль огласил всю церковь. Он потряс князя Меньшикова больше, чем известие о кончине государя.
Меньшиков помнил, как он снова перевел свой взгляд на Николая Павловича. Тот подозвал священника и приказал ему тот час принести крест и присяжный лист…
Когда священник выполнил волю великого князя, Николай Павлович, глотая слезы и задыхаясь от охватившего его волнения, стал торопливо приносить присягу Константину, своему брату, который в это время жил в Варшаве и имел право на престолонаследие, но еще в 1822 году отказался от наследия в пользу Николая. Акт отречения Константина и манифест Александра I хранились тайно в Сенате и в Успенском соборе в Москве.
Знал ли об этом сам Николай Павлович? Видимо знал. Почему же тогда он так торопился принести присягу Константину?
Князь Меньшиков был уверен, что Николай Павлович в тот час переживал какое-то никому кроме него неизвестное смятение, которое он должен был преодолеть, испытав и себя, и тех, кто намеревался стать ему ближайшим окружением.
…С графом Нессельроде князь Меньшиков попрощался по-дружески.
– Не забудьте, князь, перед отъездом встретиться с графом Титовым, – напомнил Нессельроде. – Я полагаю, кроме содержания письма султану, он расскажет и еще кое-что интересующее вас. С этого дня, Александр Сергеевич, волею господа-бога и его императорского величества, мы с вами в одной упряжке… – добавил он, а про себя подумал: «Ну, умная голова – разбирай божьи дела…»
4
На время пребывания князя Меньшикова в Петербурге государь приказал поселить его в Аничковом дворце, где князю были отведены две комнаты, которые ранее служили императору Павлу для покоев.
Сюда же тайным курьером от графа Титова привезли множество документов, свидетельствующих о делах министерства иностранных дел по защите святых мест за последние два года.
На встрече с графом Титовым, которая состоялась через два дня после посещения князем Меньшиковым канцлера Нессельроде, тот сообщил, что решение султана о передаче ключей от Вифлеемского храма католикам уже состоялось. И теперь переговоры в Константинополе еще более осложнятся. Титов так же напомнил, что этим решением нарушено закрепленное ранее договорами право русского монарха на покровительство православия на всей территории султаната.
На вопрос князя Меньшикова: «Готово ли письмо императора турецкому султану?» Титов ответил, что письмо он еще не получил, а торопить государя он не может.
В первый же день своего «заточения» в Аничковом дворце, а оно, по мнению князя Меньшикова, и было таковым: у входных дверей его комнат круглосуточно стоял караул из гвардейцев по причине нахождения у него секретных государственных бумаг. Из привезенных документов князь Меньшиков, в первую очередь, просмотрел всю переписку с посольством в Константинополе, а так же бумаги, направленные султану, главному визирю и министру иностранных дел Турции по спорному делу.
Князь Меньшиков был ни мало удивлен, когда среди этой обширной переписки нашел копию письма Николая I к турецкому султану, написанное еще год тому назад. В нем государь выражал недоумение по поводу несоблюдения султанатом своих обязательств, взятых ранее на себя и закрепленных в договорах с Россией.
Письмо это, как было видно из сопроводительных записей, вручил султану сам граф Титов.
«Почему же он не сказал мне об этом ни слова, – подумал князь Меньшиков. – Неужели забыл?..» Эта мысль озадачила князя Меньшикова настолько, что он решил снова встретиться с графом Титовым и узнать был ли ответ на письмо и если был, то какой. Чем больше князь Меньшиков размышлял над прочитанными бумагами, тем больше приходил в недоумение.
Турецкое правительство неоднократно предлагало составить совместную комиссию из государственных и духовных чиновников, которая бы в архивах могла бы отыскать подлинные документы, свидетельствующие о законном праве греко-русской православной общины на владение ключами от Вифлеемского собора. Однако такая комиссия, по всей видимости, составлена не была.
Князь Меньшиков собрался было уже ехать к графу Титову за разъяснениями, как вдруг на глаза ему попалось секретное донесение поверенного в делах в Константинополе графа Озерова, который сообщал, что в Константинополь в начале февраля этого года прибыл французский посланник де Лавалетт и пригрозил туркам: в случае, если они пойдут на уступки русскому монарху, император Наполеон пошлет к берегам Сирии французский военный флот.
Далее граф Озеров подробно излагал ответ султана на угрозу французов и его решение подтверждающее право греко-русской православной общины на владение Святыми местами.
Католикам султан даровал только право наравне с армянами владеть ключами от северных и юго-восточных ворот большой Вифлеемской церкви. Ключи же от главного входа предписывалось иметь греко-русской православной общине. О чем и был поставлен в известность иерусалимский патриарх.
В недоумении Меньшиков еще раз перечитал депешу графа Озерова. «Что же произошло с того времени? – подумал он. – Почему султан так опрометчиво переменил свое решение?»
Князь Меньшиков был уверен, принимая решение, которое по сути дела перечеркивало все ранее достигнутые договоренности, султан не мог не знать, чем это может закончиться.
Поразмыслив, он пришел к выводу, что Турция, скорее всего, заручилась поддержкой Франции и Англии.
Князь Меньшиков окончательно утвердился в своей правоте, когда отыскал еще одну депешу графа Озерова, присланную августом 1852 года. В ней поверенный в делах в Константинополе сообщал о прибытии в Константинополь французской миссии на военном корабле «Карл Великий», что само по себе было открытым нарушением конвенции, подписанной в Лондоне Россией, Англией и Францией, которая запрещала проход военных кораблей всех стран через проливы Босфор и Дарданеллы.
Просматривая далее бумаги, князь Меньшиков нашел также сообщение графа Озерова, датированное уже октябрем. В нем поверенный в делах подробно излагал содержание речи министра иностранных дел Турции Фуад-Эфенди на заседании правительства, где он заявил, что если Россия пойдет на крайние меры, против нее поднимется вся Европа и тогда будет положен конец религиозному влиянию русского монарха на единоверных ему подданных, находящихся под покровительством султаната.
Для самого князя Меньшикова спор, возникший за ключи от Святых мест, сначала казался каким-то надуманным. Однако за эти дни, проведенные в разговорах и просмотре документов, он понял: спор за ключи от Святых мест – не прихоть государя, это даже не вопрос о религии. Это вопрос – быть России или не быть великой христианской державой, ибо для того, чтобы выжить в новом времени, несущем с собой неизвестность, мало сохранить веру только в собственных границах.
«Хорошо, что государь это понял, но не слишком ли поздно?..» – подумал он.
…12 января князь Меньшиков встретился с графом Титовым в министерстве иностранных дел. Тот выглядел не лучшим образом. Он все время хмурился, часто вздыхал, порой начинал нервничать. Это было заметно по его рукам, которые граф Титов не знал куда деть.
– …Особых новостей, Александр Сергеевич, у меня нет, – сразу заявил граф Титов. – Однако кое-что появилось, что свидетельствует о неуверенности султана в правильности принятого им решения.
Князь Меньшиков с откровенным любопытством посмотрел на графа Титова. Министр иностранных дел очень походил в эту минуту на тонущего человека, хватающегося за соломинку.
– Извольте сказать, – ободряюще улыбнулся князь Меньшиков и приготовился слушать.
– Буквально вчера мне стало известно, что султан отдал распоряжение своему комиссару в Палестине разрешить грекам тайно распоряжаться в Святых местах…
Князь Меньшиков с удивлением посмотрел на графа Титова.
– Но это же направлено на прямое столкновение с католиками. Неужели вы этого не понимаете?
Вопрос князя Меньшикова совсем смутил графа Титова.
– Вы так полагаете? – спросил он.
– Конечно…
– Ну тогда я не знаю, чем еще могу быть вам полезен, – и добавил: – Если бы мы в свое время не занимались донкихотством, перед нами давно не было бы этой проблемы.
– И кто же, по вашему мнению, у нас был рыцарем печального образа? – поинтересовался князь Меньшиков, догадываясь кого имел ввиду граф Титов, говоря о донкихотстве.
Граф Титов в ответ вяло махнул рукой.
– Да будет вам… Вы все прекрасно знаете… А впрочем, поинтересуйтесь у графини Анны Федоровны Тютчевой. Она лучше меня ответит на ваш вопрос. И еще, князь, будьте осторожны с графом Нессельроде. У меня есть все основания полагать, что он приложил немало усилий, будучи вот на этом месте, – и граф Титов постучал указательным пальцем правой руки по столу, – чтобы испортить наши отношения со всеми в Европе, включая и Пруссию. Для Нессельроде единственным идеалом был только австрийский император Меттерних. Карл Васильевич давал советы государю, от коих мы до сих пор терпим одни убытки…
Такое откровение графа Титова настолько удивило князя Меньшикова, что он даже немного растерялся. О делах графа Нессельроде он кое-что знал. Ак с подачи Нессельроде при подписании Лондонского договора в 1832 году, государь дал согласие на то, чтобы на греческий престол взошел пятнадцатилетний баварский принц Оттон. Греки были возмущены, подняли восстание и баварский принц бежал из Греции. Подобная история произошла, когда египетский паша Магмет Али восстал против султаната. Граф Нессельроде и на этот раз уговорил государя стать на защиту султаната. Внимательно выслушав Титова, князь Меньшиков поблагодарил его за доверительный разговор и уже прощаясь, спросил:
– Как насчет государева письма?
– Наш канцлер пообещал в конце недели передать письмо мне или прямо вам в руки, – ответил граф Титов. И добавил: – Карл Васильевич любит повторять русскую народную притчу, только на австрийский манер. И звучит она так: самому мириться – не годится, а посла звать – вдруг люди будут знать…
5
Январь был на исходе, а князь Меньшиков по-прежнему еще находился в Аничковом дворце. Время от времени курьеры привозили ему одни бумаги, забирали другие, и ему уже начинало казаться, что государь переменил свое решение посылать его в Константинополь.
Однако в последний день месяца приехал граф Титов с письмом государя султану. На этот раз он выглядел уверенным и даже слегка самодовольным.
– Вот, Александр Сергеевич, – сказал Титов, торжественно передавая Меньшикову пакет. – Здесь письмо и проект нашей конвенции. И еще, Нессельроде как глава правительства передал инструкции, которые надлежит вам изучить вместе с письмом, – добавил он.
Князь Меньшиков пригласил Титова присесть и тут же поинтересовался:
– Я могу в вашем присутствии ознакомиться с конвенцией?
– Конечно, Александр Сергеевич. Для того я вам и привез эти документы.
Меньшиков достал из пакета текст конвенции. Она была написана на двух листах на французском языке. И состояла из шести статей.
В первой напоминалось турецким властям о необходимости неукословного соблюдения ими дарованных преимуществ и льгот греко-российской вере, приводились факты притеснения властями Турции христианского населения Молдавии, Валахии и Сербии. В остальных пяти статьях содержались требования признать патриаршескую деятельность митрополитов и епископов Константинопольских, Антиохийских, Александровских и Иерусалимских, и не чинить им препятствий. А так же выражалась просьба назначить в Иерусалиме или в его окрестностях место для строительства православной церкви и странноприимного дома для больных и неимущих паломников.
В конце конвенции князь Меньшиков нашел то, что должно было стать главным в его переговорах: требование о соблюдении исторического права патриаршей Иерусалимской церкви владеть Святыми местами, предоставленными православному духовенству издревле.
Дочитав текст конвенции до конца, князь Меньшиков отложил её в сторону.
– Ну что ж… Мне все ясно. Письмо государя я читать не буду. Однако полагаю, это не всё. Насколько я знаю, мне придется столкнуться с сопротивлением не только со стороны турецкого министра иностранных дел Фуада-Эфенди, но и тех, кто представляет интересы Парижа и Лондона в султанате. Я правильно понимаю это? – уточнил князь Меньшиков.
– Я рад, что вы об этом заговорили сами, – оживился граф Титов. – Давайте обсудим и это. Граф Нессельроде рекомендует вести себя осмотрительно по отношению к позиции Парижа. Я придерживаюсь иного мнения. Людовик Наполеон хотя и признан нашим государем… – Титов замялся и, мгновенье подумав, продолжил, – ну… скажем не совсем…
– И как же я, по вашему мнению, должен в такой ситуации вести себя? – спросил князь Меньшиков.
– Очень просто, Александр Сергеевич, – ответил Титов. – Нет необходимости выражать презрения к Людовику в лице его подданных. Видите себя обходительно, но и не уступайте ни в чем. Если в Константинополе будет французский посланник де Лавалетт, что вполне вероятно, дело тогда осложнится. Этот человек не имеет ни стыда, ни совести, но умен и тверд в своих убеждениях. Если будите с ним общаться, постарайтесь понять, чем руководствуется Людовик Наполеон в этой неприглядной истории.
– И чем же он может руководствоваться, на ваш взгляд?
Этот вопрос действительно интересовал князя Меньшикова.
Титов загадочно улыбнулся.
– О-о-о, дорогой князь! У этого новоиспеченного монарха на уме может быть: первое – стремление взять под свое покровительство французское духовенство и прослыть в качестве духовного пастора католической церкви в Европе. Разве это не привлекательно?
– Может быть, – подумав, согласился князь Меньшиков. – Что ещё?
– Он может искать конфликт с Россией для достижения своих далеко идущих целей, побудив при этом к действию против нас Турцию, Англию, Бельгию и другие державы, которые боятся нашего влияния, как в султанате, так и в Европе.
Князь Меньшиков на этот раз с удовлетворением отметил про себя логичность мыслей графа Титова и, пожалуй, впервые отнесся к нему с уважением.
– Если даже одно из двух ваших предположений верно, – сказал он, – ожидать от Людовика Наполеона какой-либо разумной уступчивости нам не придется.
Меньшиков уже почти был уверен, что на переговорах в Константинополе основной узел ему придется развязывать не столько с турками, сколько с французами и англичанами.
– Есть еще одна деталь, – продолжил граф Титов, – о которой я вам должен сказать. Буквально на днях французский посол был у меня и предложил договориться в споре о Святых местах тайно… Он имел ввиду подписать тайный договор между нашим государем и Людовиком Наполеоном, – пояснил граф Титов и, заметив недоумение на лице князя Меньшикова, добавил. – Представьте себе, Александр Сергеевич, это не бред. Дипломатия —грязное дело….
– Тайно от Турции? – уточнил князь Меньшиков.
– Совершенно верно, Александр Сергеевич…
– Ну и что же вы ему ответили, если не секрет?
Сказанное графом Титовым заинтересовало Меньшикова не менее, чем предшествующий разговор.
– Я ответил: пока Париж будет отрицать все ранее достигнутые договоренности между великими державами о праве на Святые места, другие договоренности не будут иметь значения. Тем более что в нашей дипломатии всякое тайное через какое-то время становится явным.
Князь Меньшиков не смог не согласиться с мнением графа Титова. И все же решил уточнить.
– Государь знает об это?
– Знает. Он одобрил мой ответ. Государь уверен, что Людовик Наполеон задумал очередное коварное дело против России. Хотя… – граф Титов на мгновение задумался. Потом продолжил: – В предложении французов я усматриваю желание избежать прямого столкновения с нами. Этого тоже нельзя отрицать. Посол даже уверял, что в случае нашего согласия будет отозван из Константинополя их посланник граф де Лавалетт и заменен более понимающим интересы России человеком.
– И это тоже вас не убедило? – полюбопытствовал князь Меньшиков. И вдруг подумал: «А что если Людовик Наполеон и в самом деле ищет выход из затянувшегося спора?»
И словно угадывая мысль Меньшикова, граф Титов сказал:
– Людовик Наполеон зашел слишком далеко, чтобы отступать. Да и государь ему не верит. Что же касается англичан, то тут есть надежды на взаимное понимание. Секрет весь в том, что Лондон ревниво относится к политике Наполеона и не заинтересован в усилении влияния Франции в султанате. Мои отношения с прежним министром иностранных дел лордом Русселем имели положительные результаты. Нынешний же министр лорд Эбедин мне малоизвестен. Но, тем не менее, надежда на взаимное понимание есть…
– Не означают ли ваши слова, граф, что я могу найти понимание со стороны англичан?
Граф Титов молча достал из папки, которую держал под рукой на столе, несколько листов бумаги, скрепленных печатью министерства иностранных дел и подал их князю Меньшикову.
– Это послание отправлено мною десять дней тому назад на имя министра иностранных дел лорда Эбедина, где сделана оценка политики Людовика Наполеона в Азии и описание целей вашего пребывания в Константинополе. По тем сведениям, которые я получил из Лондона, лорд Эбедин уже предпринял некоторые шаги по предупреждению недоброжелательных действий со стороны французского посланника в Константинополе. Это, князь, добрый знак. Не так ли?
И в глазах графа Титова появилась довольная усмешка.
– Я рад это слышать, – ответил князь Меньшиков.
– Однако обольщаться особенно не стоит, – тут же заметил Титов. – В Лондоне новый кабинет. Сами понимаете… Относительно прочих европейских держав – вы уже все знаете. Повторяться не буду. Единственное на что вам надо будет обратить внимание – это на позицию Австрии. Несмотря на то, что Австрия является католической страной, ее правительство не разделяет взглядов Людовика Наполеона и видит в них не религиозный спор, а политический замысел. К тому же австрийские власти никогда не разделяли стремления Франции покровительствовать католикам всей Европы.
Эти слова графа Титова еще больше укрепили надежду князя Меньшикова в том, что не все так безнадежно. И все же он поинтересовался, чтобы рассеять оставшиеся сомнения:
– Вы уверены в позиции Австрии в том, что она поддерживает нас?
– Уверен, князь, – ответил Титов. – На днях Нессельроде получил депешу от венского кабинета с заверением в том, что Австрия не поддерживает стремлений Людовика Наполеона взять на себя роль католического пастыря Европы. Поэтому, если у вас возникнет необходимость, вы можете смело обращаться к уполномоченному венского Двора в Константинополе. И позвольте, князь, дать вам последний совет. Не упускайте из виду одно, но очень важное обстоятельство: существующее пока разногласие между Лондоном и Парижем по отношению к Святым местам, – граф Титов сделал паузу, словно желал подчеркнуть важность того, что он сейчас скажет, затем продолжил: – И Париж, и Лондон всегда стремились покровительствовать в вопросах веры. Париж – католикам, Лондон – протестантам. Но так как подавляющее большинство населения находящегося под покровительством Турции – исповедуют православие, французы и англичане были вынуждены считаться до недавнишнего времени с тем, что ключи от Святых мест находились в руках православных священнослужителей. Я не думаю, что наш государь жажде войны, однако и не стать на защиту прав греко-русской общины, было бы равносильно придать забвению заветы своих предков и чаяния греко-русской православной церкви. И в Париже, и в Лондоне это понимают. Но по-разному. Вот на этом и можно попытаться построить вашу дипломатию, Александр Сергеевич.
Граф Титов закончил говорить и выжидающе посмотрел на князя Меньшикова.
– Благодарю вас, граф, – сказал князь Меньшиков. – Скажу без преувеличения: вы на многие вещи сегодня открыли мне глаза. И я буду надеяться, что все, о чем вы поведали, пойдет на пользу в наших переговорах. Боюсь только одного и буду молиться богу, чтобы у государя нашего хватило терпения и здоровья до конца пройти этот тернистый путь.
Уже прощаясь и подавая руку князю Меньшикову, граф Титов чуть заметно усмехнулся и произнес:
– Я тоже буду просить господа-бога избавить государя от излишних советчиков в этом деле…
– Вроде нашего канцлера? – уточнил князь Меньшиков.
– Вы угадали, Александр Сергеевич. Такие люди вездесущи. И у них постоянная потребность вмешиваться во все. Двор до сих пор не может забыть позора, которому государь был подвергнут в ходе неудачных переговоров выдать замуж великую княгиню Ольгу Николаевну за австрийского принца эрцгерцога Стефана…
– Я это помню, – сказал князь Меньшиков. – Однако причем тут граф Нессельроде? – не без удивления спросил он.
– При том, Александр Сергеевич, что за это дело взялся Нессельроде и успешно довел до неслыханного позора. Однако прощайте. Может случиться, что мы с вами уже не свидимся. День вашего убытия в Константинополь будет назначен государем в ближайшее время. И еще. Государь велел передать вам: в случае успешных переговоров и удовлетворения требований конвенции, вы на словах можете передать султану лично, что Россия возьмет на себя обязательство помогать султанату морскими и сухопутными силами в случае враждебных действий против Оттоманской порты со стороны любого европейского государства. И да хранит вас бог.